| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
кому что нравится или житейские истории...
| |
| Pigeon | Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:07 | Сообщение # 376 |
|
Группа: Гости
| Париж
После перестройки в Европе возник огромный интерес ко всему русскому, и к писателям в том числе. Европе стало интересно: кто же там скрывался за железным занавесом?
В составе писательской делегации я приехала в Париж. На меня, как собаки на кость, буквально набросились французские издательства: восемь маленьких и три больших.
Я выбрала большое и престижное издательство. Сейчас забыла, как оно называется. Как-то очень красиво. В этом издательстве издавались наши классики – ушедшие и живые. Я решила: здесь мне самое место.
Заведующей отделом славистики оказалась некая Каролина Бобович, француженка польского происхождения.
Я пришла к ней на переговоры.
Первое впечатление – противная. Второе впечатление – очень противная. Третье впечатление – дура. Так что в сумме получилась: противная, очень противная дура.
Мадам Бобович выглядела без возраста: от сорока до шестидесяти. Худая, но не тонкая, а просто недокормленная, с тревожным блеском в глазах.
Я ей тоже не понравилась, это было заметно по выражению её лица. Причина, я думаю, в том, что мне надо было выплачивать гонорар, а Каролина Бобович не любила расставаться с деньгами, даже чужими, казёнными.
Короче, мы встретились.
– Я могу предложить вам десять тысяч франков, – предложила Каролина Бобович. При этом смотрела на меня не моргая, как рыба.
– Двадцать, – сказала я.
Мадам молчала, видимо, подсчитывала в уме расходы и доходы. На Западе полагали, что русские слаще морковки ничего не ели, до сих пор не слезли с деревьев, качаются на хвостах и их можно купить за копейки. Я знала, что французский франк в пять раз меньше доллара и десять тысяч франков – не деньги.
– Ну ладно, – согласилась мадам Бобович. – Пусть будет двадцать.
Я ушла в хорошем настроении.
Деньги были нужны. Хотелось приодеться в Париже, прошвырнуться по модным домам и приехать в Москву настоящей парижанкой. Хотелось привезти домой два компьютера: один для работы, другой на продажу.
Мы договорились с мадам Бобович о следующей встрече. Она вручит мне договор, и у меня ещё будет время для шопинга.
В этот вечер наша писательская группа отправилась на приём. Нас всё время куда-то приглашали.
– Ты сколько собираешься попросить? – спросила я у своей подруги (тоже писательницы, разумеется).
– Сорок тысяч, – сказала она, жуя.
– Не дадут.
– Не дадут, но испугаются. И будут рады, если я соглашусь на тридцать.
Я поняла, что бизнес-способности – моё слабое звено. Думаю, что мадам Бобович тоже это поняла. Это заметно.
Настал день встречи в издательстве. Мадам Бобович сидела на своём месте в скучном платье и со скучной мордой, хотя «морда» – это у животных, и скучных морд не бывает. Все животные, даже козы, имеют очень милые лица.
Каролина Бобович поджала губы и сказала:
– Я передумала платить вам двадцать тысяч. Вы их не стоите. Кто вы такая?
– Я Токарева, – напомнила я на тот случай, если она забыла.
– И что такое Токарева? – обидно усмехнулась Бобович. Ей хотелось добавить: «говно на лопате», но она не добавила, только скривила рожу, как будто перед ней положили этот самый продукт.
Мадам Бобович действовала по привычной схеме: унизить собеседника, втереть его пяткой в землю, и уже оттуда, из-под пятки, будет невозможно выпрямиться в полный рост. И жертва согласится на предложенные условия.
– Я готова вам заплатить десять тысяч франков. Первоначальную сумму, – сказала Бобович.
Она рассчитала, что через два дня делегация уезжает, у меня не остается времени для поиска другого издательства и, загнанная в угол, я соглашусь на её условия. Всё-таки десять тысяч франков лучше, чем ничего. Но «я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в неё плюют». И не люблю, когда меня унижают (как будто кто-то это любит).
– Я подумаю, – хмуро молвила я и пошла к выходу.
– Одну минуточку! – всколыхнулась мадам. – У вас есть мой телефон?
Она протянула мне визитку. Я взяла, хотя знала, что визитка мне не понадобится. «У русских собственная гордость», – не помню, кто это сказал.
– Я жду вашего звонка, – нервно объявила мадам.
Мне захотелось сказать ей пару слов по-французски, но я промолчала. Я сомневалась в своем произношении.
На следующий день состоялся ещё один, заключительный прием.
Еды было навалом. Наши ходили и ели без остановки. Ели впрок, поскольку было неясно, удастся ли поесть вечером.
Я стояла с бокалом французского вина – печальная, но не раздавленная. Скорее, упертая. Обидно, конечно, возвращаться без компьютеров, но зато я не увижу больше противную, очень противную дуру.
Ко мне приблизился квадратный француз с круглыми рыжими глазами. Как у петуха.
– Жан-Люк. Я представляю издательство «Фламарион».
Он говорил по-русски с французским акцентом. Было очевидно, что это француз с прекрасным знанием языка.
– Я ваш поклонник, – сказал Жан-Люк.
– Спасибо…
– Вы одна из самых ярких писателей своего поколения.
– Да ладно… – смутилась я.
– Нет, нет, поверьте. Вы сумели услышать месседж своего времени и передать его дальше. Я даже не знаю, как вам это удалось.
Я почти физически почувствовала, как вылезаю из-под пятки Бобович и расту, расту вверх. Жан-Люк вернул мне мой «идеал Я», моё попранное достоинство, и, более того, он меня возвысил. И я парю. И уже посматриваю на других сверху вниз, из-под облаков.
– Я предлагаю вам гонорар сорок тысяч франков, – произнёс Жан-Люк.
Мои мозги закипели от счастья.
– А где вы раньше были? – удивилась я.
– Я выжидал. Я всегда так делаю. Выжидаю до последнего дня, а потом удваиваю гонорар.
– Но я завтра улетаю…
– Ваш самолет в четырнадцать часов. Я буду у вас в отеле в девять утра. Мы вместе позавтракаем и подпишем документы.
Сказка… Сон…
Жан-Люк явился ровно в девять утра.
Кровать в моём номере занимала четыре метра, а сам номер – пять метров.
Мы сели на кровать. Больше некуда.
Жан-Люк вытащил из папки документы, которые надо было подписать.
Я подложила под листки жёсткую папку Жан-Люка. Подписала договор в двух экземплярах: один ему, другой мне.
История со счастливым концом.
Но ведь я могла согласиться на предложение Бобович и тогда не досталась бы Жан-Люку.
– Вы могли меня упустить, – сказала я.
– Да. Я рисковал. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Я недавно перехватил у Бобович знаете кого?
– Откуда же я знаю? – Я вопросительно смотрела на Жан-Люка.
– Михаила Горбачёва! – объявил он.
– Боже…
– Они с Бобович договорились на вторник на десять часов утра, а я приехал в восемь утра и удвоил цену, так что, когда Бобович притащилась в отель на своём драндулете, было поздно. Её тогда чуть не выгнали с работы. Хозяин сказал: «Сосредоточьтесь на другом издательстве».
– Но не выгнали?
– Да. Хозяин дал ей шанс, но предупредил, что, если ещё раз случится нечто похожее, она потеряет место. А потерять работу во Франции – не то что в России. У вас в России в советские времена не было такого классового расслоения.
А в Париже… ты – как на корабле. Приходится менять палубу, спускаться ближе к трюму. Другое окружение, другая еда, полная потеря статуса. Некоторые стреляются.
Бедная Бобович. Её сгубила жадность и глупость. Она во второй раз наступила на те же самые грабли.
Тем не менее я должна ей позвонить, поставить в известность. Попрощаться, по крайней мере.
– Вы не могли бы позвонить Бобович? – спросила я.
– Авек плезир, – ответил Жан-Люк, поднимаясь с кровати.
– Вот визитка…
– Я знаю, – отмахнулся он. – Что мы ей скажем?
Можно сказать: «Я от тебя ушла, кто ты такая?» Но зачем мстить? Это мелко.
– Скажите так: Токарева благодарит вас за внимание к её творчеству. Но у неё переменились планы.
Жан-Люк набрал нужные цифры. Проговорил всё, что мы наметили.
– Кто это? – вскричала Бобович. – Кто? Как? С кем я говорю? Назовите имя, имя, имя…
С Бобович была буквально истерика. Она поняла, что придётся переходить на другую палубу и уже пора собирать вещи.
– Хотите что-нибудь сказать? – спросил Жан-Люк.
– Передайте оревуар, – ответила я.
Жан-Люк попрощался и снова сел на кровать. Больше сесть было не на что.
Нависла сложная пауза.
Париж. Номер. Кровать четыре метра. Мужчина и женщина.
Глаза у Жан-Люка рыжие, умные, авантюрные.
Когда мужчина умён и талантлив, о внешности забываешь. Но… где-то далеко за нашими спинами металась дура Бобович, мельтешила, мелькала, вскрикивала, будто в неё стреляли.
У русских есть поговорка: «На чужом несчастье счастья не построишь…»
Я вздохнула и поднялась с кровати, ставя точку на своём пребывании в Париже. Скоро самолёт, пора собираться. Я не могу уезжать больше чем на десять дней. Я хочу домой.
Оревуар, Каролина Бобович.
Оревуар, Жан-Люк, плеснувший мне в лицо горсть радости.
Оревуар, Париж. Мерси боку.
Виктория Токарева
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 01:53 | Сообщение # 377 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 710
Статус: Offline
| БАБУШКИНА ТАЙНА
или Зигзаги русско-еврейских и итальянских судеб
— Нелечка, пора домой, — Мария Абрамовна убрала в сумку книгу и, встав со скамейки, направилась к выходу из парка.
— Бабуль, ну ещё немножко, ну пожалуйста, ну бабуль! – принялась канючить девочка. — Инка с мамой же ещё не уходят.
— А мы уходим, — строго сказала бабушка. – У тебя завтра ранний урок по музыке.
Неля вздохнула и поплелась вслед за бабушкой, от расстройства даже забыв попрощаться с подружкой.
* * *
Нелли проснулась и кинула ещё затуманенный со сна взгляд на таблет, находившийся на круглом прикроватном столике рядом с бабушкиной фотографией, помещённой в красивую серебристую рамку. Уже несколько дней от неё не было письма и вообще вестей из дома.
Молодая женщина пятый год жила в Италии. Она поехала туда во время учёбы в Иерусалимском университете с группой студентов-лингвистов. Да так и застряла, выйдя замуж за Пьетро, который преподавал у них на курсе и был старше Нелли на двенадцать лет.
Повернувшись на бок, Нелли включила таблет и обнаружила в электронной почте письмо.
«Дорогая моя девочка, — писала бабушка, — я чуть-чуть приболела, поэтому не могла тебе ответить сразу. Насколько мне приятнее было бы писать на обыкновенной бумаге, но технологии – эта отличная возможность экономить время… Как будто ты рядом, солнышко.
У нас все по-прежнему, мама с папой очень заняты на работе. Я гуляю по утрам со своей «бонной», здесь бы надо поставить, как вы говорите, смайлик. Береги себя, поменьше нагибайся, в твоем положении это не очень хорошо! В нашем роду все женщины слабенькие, учти.
Как твой Петечка? В последний приезд он уже неплохо понимал отдельные русские выражения. Пусть продолжает учить, а то так и придется мне служить переводчицей с корявого английского твоих родителей-неучей».
«Ага, «слабенькие», уж она-то сильная, моя бабулечка, но что-то явно не так, не её стиль… не зря же она мне приснилась», — с беспокойством подумала Нелли.
Она слезла с кровати и пошла в ванну. Нелли уже третий месяц мучил токсикоз. «Ну ничего мой маленький, когда ты родишься, я об этом быстро забуду», — с первых же дней беременности Нелли была уверена, что ждёт мальчика и всегда разговаривала с ним, гладя свой живот.
* * *
— Мам, привет, — Нелли включила скайп. — Позови-ка бабулю, что-то письмо мне её не понравилось.
— Нелечка, родненькая, ты только постарайся не волноваться, мы не хотели тебя тревожить. Надеялись, обойдется и в этот раз. Она в больнице уже вторую неделю.
— Как в больнице?! А почему-то мне ничего не сообщаете? Я только что от неё письмо прочитала.
— Это я написала под её диктовку.
— Сейчас же закажу билеты и с ближайшим рейсом буду у вас.
— Честно говоря, тебе и в самом деле нужно приехать, Нелюшка.
— Все настолько серьезно, мам?
— Да, солнышко.
* * *
— Бабулечка, миленькая, ты меня слышишь? – Нелли наклонилась к Марии Абрамовне.
Бабушкина худенькая рука, обтянутая пергаментом кожи и опутанная трубками, идущими от капельницы и аппарата для дыхания, с трудом приподнялась и тут же опала. Нелли взяла другую почти невесомую руку, лежащую поверх одеяла в свои ладони, и принялась очень осторожно растирать теплыми пальцами.
— Ба, а ты помнишь, как мы с тобой гуляли по ташкентскому базару, я ещё всю дорогу требовала купить мне кота в красном сапоге, который мяукал. А получив, почти тут же сломала, – Нелли улыбнулась сквозь слезы, застилавшие ей глаза.
Она пыталась не отпускать бабушку. Ей казалось, что если она будет ей напоминать о прошлом, бабуля найдет в себе силы задержаться, не покидать их. — А помнишь, как ты рассказывала мне про погромы в вашем местечке в Украине? Тебе говорили, что ты не похожа на еврейку и можешь не прятаться.
Нелли теребила Марию Абрамовну, как могла, но та больше не реагировала на слова. Она была уже не здесь.
Если бы старушку сейчас спросили, хочет ли она еще побыть с родными и увидеть пока не рождённого правнука, едва ли она согласилась бы, несмотря на огромную любовь к своим детям и будущему правнуку. Скорее всего, Мария бы ответила, что всему свое время.
Старая женщина больше не хотела сопротивляться, она очень устала. И теперь ей был нужен вечный отдых от жизни...
За несколько лет до этого ушёл любимый муж, и Мария Абрамовна уже стремилась к нему.
Дети и внуки давно стали на ноги, так что её миссия на Земле была выполнена. Но младшая внучка не хотела этого принимать. Бабушка была для неё самым большим другом с детских лет. Именно ей она поверяла все свои сначала детские, а потом и «девушковые» секреты.
Правда, лет в 17 у девушки началась своя, отдельная от семьи жизнь. Но по-прежнему с радостями и огорчениями, она всегда стремилась первым делом к своей бабулечке.
И вот теперь, когда в ней зародилась и с каждым днём крепла новая жизнь и Нелли так хотела порадовать любимую бабушку, Мария решила, что этот мир ей уже всё рассказал. Она возвращалась к мужу, давным-давно ушедшим, но не забытым родным, и безвременно погибшим друзьям.
* * *
Профессор истории Джакомо ди Батиста, лет пять или шесть тому назад отошедший от дел, жил на озере Комо. У него была небольшая вилла в городке Чернобио. Каждое утро с тех пор, как профессор перестал преподавать в одном из миланских колледжей, он посвящал написанию нескольких глав для учебного пособия студентам-старшекурсникам. Сроки, оговоренные с издательством, уже поджимали, но это не мешало ему отдавать час возне в любимом саду, где царил образцовый порядок. Его двор благоухал розами, анютиными глазками, гортензиями, настурциями и множеством более замысловатых сортов растений. Всё это цветущее великолепие располагалось строго геометрично, образуя красивые квадраты высаженных цветов. В центре Джакомо собирался поставить небольшой фонтан, что и обсуждал сейчас со своим садовником и двумя рабочими.
— Джакомо, тебя к телефону, — позвала из гостиной Лючия.
— Скажи, чтобы перезвонили, если не срочно, — ответил он жене, — я занят.
Лючия вышла в сад:
— Это из Израиля. Мария умерла.
Перед глазами профессора мгновенно предстало лицо Марии. Но не то, которое он помнил в последние годы, видя её только в интернете, а прекрасное, молодое, смеющееся над его шутками. Ему стало так больно, что трудно было дышать.
«Ну вот и всё, — возникло в голове, — теперь моя очередь…»
— Джакомо, тебе нехорошо? Я сейчас же вызову синьора Витторио! – испугалась Лючия.
— Не надо никого вызывать, дай-ка лучше мои сердечные капли. И скажи Мареле, чтобы заказала билет в Тель-Авив.
— Но ты не можешь никуда лететь, у тебя слабое сердце!
— Лючия, это не обсуждается, ты сама знаешь!
— Я-то, конечно знаю, — пробормотала Лючия, — потому и не хочу тебя отпускать!
Она ревновала к только что скончавшейся старой женщине. Ревновала теперь уже к памяти о ней.
Было и ещё одно серьёзное обстоятельство, о котором Лючия не могла не думать…
* * *
«Моя любимая девочка, — читала Нелли, сидя в своей бывшей комнате родительской квартиры, — я обязана тебе кое о чём поведать. То, что я собираюсь написать, ты узнаёшь первой в нашей семье. И мне придется возложить на тебя непростую миссию, рассказать обо всём родителям. Позже ты поймешь, почему.
Это было очень давно и совершенно в иной жизни. Мы с мамой и старшей сестрой, как тебе известно, эвакуировались из Украины в Ташкент, где и остались жить после войны. Я была еще совсем молоденькая, зелёная и смешливая.
Помню, как мы с Полиной бегали смотреть на итальянских военнопленных, работавших на строительстве времянок для новых жителей, стекавшихся в город.
Нам с сестрой они представлялись какими-то инопланетянами. Хотя на самом-то деле это были просто худющие мужчины, очень загорелые и в целом, практически ничем не отличавшиеся внешне от тех, кого мы видели постоянно. Целыми днями они работали на дикой жаре, обливаясь потом. Но, несмотря на тяжёлые условия, итальянцы обладали удивительным оптимизмом, дарившим надежду и нам. Вот это качество как раз рознило их с советским населением. Итальянские мужчины часто смеялись, шутили и даже пытались с нами заигрывать.
Мы с Полиной приносили им воду, и когда удавалось — что-нибудь поесть. Парни иногда выменивали какие-то вещички на хлеб, а мы по мере возможности помогали им в этом.
Заодно нахватались итальянских слов, правда, язык так и не освоили, потому что некоторые довольно бойко изъяснялись по-английски, и мы сильно не напрягались. Ты ведь знаешь, что в нашей семье английский учили с детства.
Был среди них один очень симпатичный парень, попавший в плен под Сталинградом. Он почему-то сразу выделил меня и не скрывал своего особенного расположения. С ним было легко общаться. Джакомо много рассказывал о своей любимой Италии и сумел зародить во мне большой интерес к этой стране на всю жизнь. Который я передала и тебе.
А Полина буквально потеряла от него голову.
Мне в ту пору едва исполнилось шестнадцать, и я ещё всерьез не думала о мужчинах. Кроме того, был один мальчик на год моложе меня, с которым мы уже какое-то время играли в гляделки. Всё было очень невинно. Этот мальчик, которого я со временем по-настоящему полюбила, и стал твоим дедом…»
Нелли не раз слышала от бабушки о её старшей сестре, которая умерла в молодости, но никаких подробностей не знала и не стремилась узнать, а сама бабушка никогда не рассказывала.
Она отложила письмо, написанное от руки на нескольких страницах аккуратным бабушкиным почерком и, встав с кровати, подошла к окну, решив, что дочитает немного позже, когда уймет подступившее волнение. Ей нужна была пауза.
Будущая мать чувствовала груз ответственности, которая ляжет на её плечи вместе с прочитанным. И это немного пугало.
Только-только начинало смеркаться, Нелли очень не любила это время суток. В такие моменты на молодую женщину нападала какая-то необъяснимая тоска.
Обычно, как только ночь являлась зажигать уличные фонари, ей становилось легче. Но не в этот раз. Бабушка словно обращалась к своей внучке. Нелли слышала её спокойный мелодичный голос, молодое звучание которого удивляло всех знакомых.
А она и была молода душой. Всегда интересовалась тем, что происходит в мире. С большим удовольствием общалась с друзьями своих внуков. Самое интересное, что и они с не меньшим интересом беседовали с Марией Абрамовной.
Когда появился Фейсбук, бабушка пожелала завести там свой аккаунт и Нелли с радостью ей помогла. А ещё научила пользоваться электронной почтой. Правда, свои собственные фотографии бабуля нигде не выставляла. Она почти перестала сниматься с тех пор, как начала стареть.
— Ба, а что ты будешь ставить у себя на стене в Фейсбуке? – как-то полюбопытствовала внучка.
— Как что? Своих детей и вас, моих любимых внуков, конечно!
Нелли очень гордилась такой продвинутой бабулей.
* * *
— Нелюшка, идём ужинать, — позвала мама, отвлекая дочь от тяжелых мыслей.
— Сейчас иду, — Нелли взяла письмо и вышла из своей комнаты.
— Мам, ты не знаешь, о чем говорится в письме? – спросила она, хотя ответ был итак ясен.
— Нет родная, бабушка просила отдать его тебе, когда… ну ты понимаешь. Это лично для тебя.
— А папа где?
— Скоро должен подъехать. У них на работе как всегда запарка.
— Так может, мы его подождем? – Нелли отщипнула поджаристую корку хлеба.
И как раз хлопнула входная дверь.
— Кто собирается меня ждать? – в комнату зашел Дмитрий Владимирович. — Я с вами девочки. Сейчас переоденусь, умоюсь и притопаю за стол.
Он поцеловал жену и дочь в тёплые макушки и прошел в спальню.
* * *
Нелли была дома одна, она после бабушкиных похорон уже несколько дней неважно себя чувствовала. Родители поехали договариваться насчет памятника. Дочитанное письмо лежало у неё на коленях. Молодая женщина, пребывая в глубокой задумчивости, машинально снова открыла его на третьей страничке.
«…Полина плакала у мамы на коленях и просила прощения за свою неосмотрительность. Она не смогла устоять перед Джакомо. Он сидел тут же, за небольшим столом в нашей единственной комнате, и заверял, что готов жениться и увезти её в Италию, куда надеялся вернуться через месяц.
При этом Джакомо и не думал скрывать, что хотел бы видеть меня на её месте. И это было тяжелее всего для моей бедной сестры. Она отказывалась с ним ехать, как они с мамой ни настаивали, и просила забыть нашу семью.
Поля понимала, что не сможет жить с человеком, который будет тосковать по другой женщине, да ещё её родной сестре. И не хотела неизбежной разлуки с нами. Ведь в то время это было навсегда, к тому же она знала, что родственные связи с заграницей сделают нашу и без того не сладкую жизнь во много раз сложнее.
Моя сестричка, до сих пор не могу об этом писать спокойно, хотя прошло уже столько лет, скончалась при родах. А ребёнок выжил. Я думаю, ты уже догадываешься родная, что им был твой папа, которого я вырастила как своего сына и он никогда не имел понятия, кто на самом деле его мать. Через три года я вышла замуж за того самого мальчика Володю, с которым играла в гляделки. И Дима всегда считал его родным отцом.
А несколько лет назад мы с Джакомо нашли друг друга в интернете. Я почти ничего не рассказывала ему о вас, чтобы не бередить старые раны. Только проинформировала, что уже много лет живу с семьёй в Израиле. Мне просто хотелось вспомнить нашу молодость и свою так рано ушедшую сестру.
А сам он о Полине и ребёнке тоже особо не расспрашивал, как будто закрыл эту дверь наглухо. И я не пыталась её приоткрыть, понимая, что это очень больная для него тема.
В основном Джакомо рассказывал о своей жизни и писал, что многие годы не мог забыть меня, пока не встретил и не полюбил женщину, с которой вместе работал. И в свою очередь, в память о Полине и нашей семье, он воспитал её сына как своего…
Мне пришлось так долго хранить эту тайну, потому что я обещала своей маме. Она считала, что если вскроется, что я воспитываю сына иностранца, это отрицательно скажется на нашей с твоим отцом дальнейшей судьбе.
Видимо, мама, потеряв старшую дочь, тряслась надо мной по любой причине. Ничем другим не могу этого объяснить. И я была не вправе нарушать её просьбу. Даже мой отец, на наше счастье, уцелевший и сумевший вернуться к нам лишь через несколько лет после окончания войны, всегда считал, что Дима наш с твоим дедом сын.
Нелюшка, ты найдёшь в этом длинном письме все координаты Джакомо. И когда придет мой час, я прошу сообщить ему всё, что ты посчитаешь нужным. А также посвятить в историю нашей семьи своих родителей. Они должны знать, потому что я последнее звено в этой цепи и больше не вправе молчать, иначе память о моей сестре сотрётся вовсе, как будто её никогда и не было на этой земле. А ведь она дала жизнь твоему отцу…
Вам предстоит узнать ещё кое-что, но я думаю, это только к лучшему».
Дальше Нелли перечитывать не стала...
Дождавшись отца с матерью, она усадила их перед собой и просто зачитала бабушкино письмо вслух. Отец был в шоке, он не знал, как реагировать, поэтому ушёл в свой кабинет и закрылся. Мать с дочерью ходили на цыпочках, стараясь ему не мешать. Пару часов спустя он вышел оттуда примиренный с мыслью, что как ни трагична судьба его биологической матери, истинные родители для него те, что вырастили и отдали ему всю свою любовь наравне с появившимися позже близнецами братом и сестрой, жившими ныне в Америке. Все они собрались в Тель-Авиве в эти скорбные для семьи дни.
Но когда дочь попросила Дмитрия позвонить в Италию, чтобы сообщить печальную весть, он переложил это на жену. Ни отец, ни его дочь просто не могли справиться с волнением, чтобы поговорить с незнакомым им родным человеком…
* * *
Джакомо дремал, пока такси везло его с женой из аэропорта в отель. На похороны они не успели, но профессор хотел побывать на могиле Марии и познакомиться с её родными. А самое главное, он должен был, наконец, увидеть своего сына и внучку…
Лючия, сидя рядом с мужем, без всякого любопытства смотрела в окно. Сначала они проезжали сельскую местность, в отдалении от дороги то там, то сям мелькали симпатичные двухэтажные частные дома с красными черепичными крышами. Но постепенно пейзаж стал меняться и ближе к Тель-Авиву пошли высотные здания.
В какой-то момент Лючия перестала обращать внимание на вид города.
Устав от трёхчасового перелета из Милана, она откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Воспоминания словно раздвинули границы времени, и Лючия увидела себя одинокой молодой женщиной, оставшейся с маленьким ребёнком на руках.
Они познакомились, когда Лючия устроилась преподавателем английского языка в колледж, где Джакомо служил уже не один год. Их отношения складывались постепенно. Сначала это была просто дружба двух людей, которых объединяло общее место работы. Потом выяснилось, что на многие вещи они смотрят одинаково, а порой засидевшись в теплой компании друзей, обращали внимание, что чаще всего занимают похожую позицию в дискуссиях и спорах. И двадцать лет разницы между ними не играли никакой роли. Они любили одни и те же книги, их музыкальные вкусы и кинопристрастия почти всегда совпадали. Оба обожали Феллини и зачитывались произведениями Фицджеральда.
Их сближение было столь естественным, что желание пожениться выглядело вполне логичным и завершённым.
Когда Джакомо сделал Лючии предложение, он сразу решил, что в семье не должно быть никаких тайн и недоговоренностей. Они рассказали друг другу о себе абсолютно всё. Так Лючия узнала о существовании Марии, и о беременности её сестры. А Джакомо принял Лючию вместе с крошечным Пьетро, отец которого бросил Лючию как только узнал о будущем ребенке.
* * *
— Мам, они вот-вот подъедут, — нервничала Нелли, — а мы ещё не всё подали к столу!
Пьетро сзади подошёл к жене и обвив руками её полнеющий стан, стал что-то нежно шептать на ухо, от чего молодая женщина сразу расслабилась.
Он прилетел как только смог освободиться. Домой они собирались вернуться на следующей неделе...
В дверь позвонили, и Пьетро поспешил открыть, пока жена с тёщей делали последние приготовления к приходу столь необычных гостей.
Экспрессивная итальянская речь в прихожей вдруг превратилась в изумлённые возгласы.
«Мама, Джакомо, что вы здесь делаете?!» – услышала Нелли.
Она стремительно пошла навстречу гостям, уже понимая, кого сейчас увидит.
Дмитрий Владимирович и его жена, расставлявшие в этот момент стулья вокруг стола, переглянувшись и не понимая, в чём дело, тоже вышли к входной двери.
Еврейско-итальянское семейство, столпившись в узком проходе, старалось перекричать друг друга на всех доступных им языках.
«Эх, бабуля как тебя не хватает! — в который раз подумала Нелли. — Ты бы быстренько навела порядок в нашем балагане».
* * *
— Я хочу выпить за полное воссоединение нашей нестандартной семьи, — Джакомо поднял бокал кьянти, привезенного в подарок своим детям из винодельни старого друга. — И счастлив, что своих родных детей знаю, оказывается, почти пять лет! А вам надо учить итальянский, мои дорогие, — наставительно обратился Джакомо к сыну с невесткой. — Английский у вас тоже так себе, иначе нашей дорогой Марии не удавалось бы столько лет хранить свои секреты. — При этом он невольно оглянулся на сидевшую рядом Лючию.
Но она была безмятежна, её любимому мальчику, её Пьетро, не грозила возможная дележка наследства, что так мучило её с той самой минуты, как она узнала о смерти Марии.
— Вот если бы вы в своё время приехали и на израильскую свадьбу Нелли и Пьетро, то сразу бы всё и выяснилось! — весело возразил Дмитрий. — И с мамой бы увиделись… — вздохнув, добавил он.
— Зато ты Дима, прилетев на свадьбу к детям, тогда впервые побывал в Италии, на родине своего отца, хотя это могло произойти на много лет раньше…
Шумное семейство еще долго сидело за столом. Им всем было о чём вспомнить и что рассказать друг другу.
Пьетро принёс свой ноутбук и подключил его телевизору. Все стали смотреть семейные фото и дружно обсуждать увиденное. Дух Марии Абрамовны незримо витал среди родных, потому что она присутствовала во всех их разговорах…
«Бабуле пришлось бы по душе, что мы вспоминаем её с легкой грустью, а не рыдаем без конца», — вдруг подумала Нелли и этим вечером впервые за последние дни, ей стало легче.
* * *
Дмитрий с женой недавно вернулись из Италии. Они гостили на озере Комо у Джакомо с Лючией. Впереди у него было несколько свободных дней. И он решил заняться косметическим ремонтом в комнате матери. Когда зазвонил телефон, Дима находился на стремянке, красил потолок.
— Алло?
— Пап, чего так долго трубку не берёте, я уже хотела отключаться! — Нелли была на восьмом месяце, и это не лучшим образом сказывалось на её нервах.
— Я крашу потолок в бабушкиной комнате, доча, а мама вышла в магазин.
— А, ну ОК, — тут же переключилась она. – Папа, мы с Пьетро решили, что я буду рожать в Израиле. Так что ждите нас на следующей неделе.
— А как же твой токсикоз? И срок уже большой, разве ты сможешь лететь?
— Не волнуйся, я справлюсь.
* * *
Когда Пьетро вошёл в палату к жене, их маленький сын, причмокивая, вовсю сосал мамино молоко.
— Ух, какой ты жадина, оставь и мне немножко, парень, — улыбнулся Пьетро.
Марио на минутку оторвался от важного дела и посмотрел на отца миндалевидными серыми глазами, и вновь сосредоточенно принялся за еду.
Елена ПЛЕТИНСКАЯ
|
| |
| |
| отец Фёдор | Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:31 | Сообщение # 378 |
|
Группа: Гости
| замечательная история, за сердце берёт!
спасибо, Примерчик, что познакомили с автором!
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:16 | Сообщение # 379 |
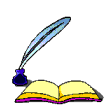 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 319
Статус: Offline
| К слову о «судьбе», или Муся выходит замуж
Заспорили мы как-то с тётей Фирой о судьбе.
– Не нравится мне Сонин муж, – посетовала она, размешивая сахар в чашке с чаем. – Ничего не могу сказать, – ко мне он уважительно относится. Но тюфяк какой-то...
– Лишь бы ей нравился, – подзавела я тётю.
– А! Не знаю. Она такая красавица, умница, – могла бы получше найти.
– Значит, судьба такая, – подлила я масла во огонь.
– Ой, я тебя умоляю! Судьба! – презрительно фыркнула тётушка. – Познакомили, – вот и вся судьба. Познакомили бы с кем другим, – может, лучше бы девочка устроилась.
– Тётя Фира, познакомить мало. Надо ещё, чтоб совпало всё. Вот мама рассказывала, как папу увидела, – сразу поняла – судьба.
– Нет. Мне это нравится! Это ты мне будешь рассказывать, как твоя мама с твоим папой познакомились?
– Просто к слову пришлось.
– Много вы все понимаете, – никак не успокаивалась тётушка. – Где бы была та судьба, если бы не Йосеф! Слушай сюда.
***
– Йосеф, ну нельзя же совсем не кушать, – расстроилась Циля. – У меня борщ с фасолькой, как ты любишь. Жаркое. А форшмак какой... Съешь хоть кусочек.
– Твоя дочь из меня самого форшмак сделала.
– Ой, не говори так. Всё будет хорошо. Всё как-то устроится, – Циля застелила стол скатертью и стала накрывать. – Обязательно устроится. Вот увидишь.
– Само не устроится. Ладно. Налей стопку. Под форшмак. И Фиру зови. Может, ещё какие новости узнаем. Чтоб потом лишний раз не горевать. Сразу за всё... – усмехнулся Йосеф.
– Не дай бог! – чуть не выронила тарелку Циля. – Что ты такое говоришь, Йосеф? Тфу-тфу....
Как говорится: еврей смеётся, чтоб не плакать. И было отчего...
Вчера, когда Йосеф подрезал виноград во дворе, в калитку влетела Фира и, не переводя дыхания, заголосила:
– Йосеф! Йосеф! Ой, что мне Идочка Семёновна сейчас рассказала. Это же кошмар!
– Фира, что ты сегодня на хвосте принесла? – Йосеф отложил секатор и сел на лавку.
– Ты не поверишь! Циля, бросай уже свою метлу, садись!
Циля оставила работу и с выражением лица «вы меня вынудили» присела на табурет рядом с мужем и сложила руки на коленях.
– Иду я, значит, с базара. У ворот такое столпотворение сделалось. Я тебе передать не могу! Картошку прямо с грузовика давали. По десять копеек. Хотела запастись, да рук не хватило. Уже курочку взяла, красненьких немножко, зелени по мелочи, синеньких...
– Фира, что стряслось-то?
– Так я ж рассказываю, Циля, не перебивай. Значит, взяла синенькие. Маленькие, как огурчики, но толстенькие. Так у меня и духовочка маленькая. Зачем мне большая? Много ли для себя надо...
– Дело говори, – рассердился Йосеф.
– Так я именно, что – дело. Я ж по порядку думала. А вы сбиваете. Значит, о чём это я... Да! Пошла посмотреть, за чем это очередь выстроилась. Столько людей, – кто что говорит...
– Фира!
– Ну что ты горячий, как самовар. Всё. Ша. Уже заканчиваю. Так вот, в очереди за картошкой я и встретила Идочку Семёновну. Золотая женщина. Пусть будет здорова вместе со своими детками. – Как дела, – спрашиваю, – Идочка Семёновна?.. то... сё... А она:
– Дорогая Фира Львовна, я вам сейчас такое скажу. Вы будете просто шокированы. Я вам это гарантирую. Только давайте отойдём, чтоб никто не услышал. А то люди, сами знаете, хлебом не корми, дай посплетничать.
– Чувствую, дело серьёзное. Идочка Семёновна зря не скажет. Это тебе не Марья Израилевна какая-нибудь. Та – конечно...
– Твоя сестра не может без этих штучек, – вздохнула Циля.
Взгляд Йосефа потяжелел:
– ЧТО – ОНА – ТЕБЕ – СКАЗАЛА?
– Нет, ну никакого удовольствия вам рассказывать, – расстроилась Фира. – Муся наша с парнем встречается. Не парень, а сплошная боль в заднице! Гой, бабник (одна – даже травилась из-за него! Люди всё знают) и физкультурник. А? Что ж это за специальность такая для мужчины?
– Моя Муся? – схватилась Циля за сердце.
– Врёт всё твоя Идочка Семёновна, – отрезал Йосеф. – Муся у меня умная и послушная девочка.
– Да? Моя Фатима тоже умная была, пока Жорку-рыбака не встретила! А ты много маму с папой спрашивал, когда жениться решил? Или я спрашивала? Да сам убедись, – Идочка Семёновна сказала, что этот гой Мусю каждый день с работы встречает и до поворота провожает. К дому боится, видно, подойти.
Йосеф задумался и через минуту спросил очень спокойно:
– По какой дороге?
Вечером, со знакомым водителем, Йосеф ехал домой. По той самой улице. И увидел собственными глазами: его Муся (красавица, любимица, старшая дочь!) шла под руку с каким-то парнем и хохотала во весь голос!
Он попросил притормозить и опустил стекло в окошке:
– Молодые люди, что же это вы пешком идёте? Садитесь, подвезу. – И водителю: – Открой им заднюю дверь.
Молча доехали до дома, вышли:
– Вы прощайтесь, молодые люди, а я домой пойду. Мария, не задерживайся.
Только Циля знала, чего стоило Йосефу сдержаться и ни слова не сказать в тот же вечер своей любимице. Муся утром тихо, как мышка, собралась и улизнула на работу. А Йосеф всё мерил комнату тяжёлыми шагами и думал, думал, думал.
С тяжёлым сердцем Муся собиралась с работы домой. Её ожидал нелёгкий разговор. Родители были ей очень дороги. Но и сдаваться она не собиралась. Не зря была любимицей Йосефа – его характер. Очень кстати забежала Фатимка. Кому ещё излить душу. Хоть и двоюродная, а выросли вместе. Всё и всем делились с детства.
– Это же произвол какой-то! Почему они считают себя вправе указывать мне, с кем встречаться, – возмущалась Муся. – Какая разница: еврей – не еврей. Мы в двадцатом веке живём. Это всё местечковые предрассудки!
– А он тебе очень нравится? – перебила Фатимка.
– Ты знаешь, как за ним все девчонки умирают. Конечно, мне приятно, что он с меня глаз не сводит.
– Да с ним-то всё ясно. А ты как? Влюбилась или просто дяде наперекор решила пойти?
– Да нравится он мне!
– Ну и хорошо. Чего орать-то. Лучше тебе сейчас не идти домой. Пусть перемелется. Пошли ко мне. Посидим, поболтаем. Абрам ещё на работе.
Обсуждение всех вариантов предстоящего разговора с родителями настроение Муси не улучшило.
– Муська, хватит киснуть. Пойдём лучше к Фане Георгиевне. У неё сын из рейса вернулся. Говорят, такой панбархат на продажу привёз, – отпад. Может, сторгуем?
– Пошли, – вздохнула Муся. Ей было всё равно, куда идти, лишь бы оттянуть возвращение домой.
– Только переоденься вот в это платье.
– Зачем это?
– Ну, ты такая серая мышка в своей юбочке-кофточке. Фаня Георгиевна сразу поймёт, как тебе этот панбархат нужен, и цену заломит.
– Хорошо, – поймала она брошенное платье и стала расстёгивать пуговицы на кофточке.
– И губы заодно подкрась...
Скоро девушки стучались к соседке. Дверь открылась. На пороге стоял высокий, чернобровый красавец лейтенант, в белоснежной лётчицкой форме, с золотыми погонами. Девушки на миг онемели. А он улыбнулся и предложил войти. Объяснил, что хозяйка ушла к соседке. Скоро вернётся. А он недавно снял здесь комнату. На время отпуска.
Лейтенант смотрел на Мусю. Муся на него. Фатима быстро оценила ситуацию:
– Вам, наверное, скучно в отпуске. Ничего же здесь не знаете. У нас в Ореанде сегодня потрясающий оркестр играет на танцах. Не интересуетесь?
– Интересуюсь. Очень, – обрадовался лейтенант, не отрывая взгляда от Муси.
– Фатимка, там же по билетам, – растерялась та.
– Ничего. Мне обещали достать.
А через неделю он сделал Мусе предложение. И моя мама его приняла.
***
– Тётя Фира, да это же типичный пример «судьбы». Надо же, чтобы так всё совпало. А если бы сын Фани Георгиевны не привёз на продажу панбархат?
– Понимала бы чего... – проворчала тётушка, – не было никакого панбархата!
– Как это?
– А так, что мне курочку пришлось зажарить, чтоб на целый вечер Фаню Георгиевну из дома утащить. Её, знаешь, как все соседские девчонки донимали, когда квартиранта такого увидели? А что ты думаешь, дедушке твоему легко было достать билеты на танцы в Ореанду в самый разгар лета? Или просто так он потом Фатиме нарядное платье подарил? Понимала бы чего...
– Но всё равно, – придавленная объёмом новой информации, не сдавалась я, – ведь мама могла и не влюбиться в папу. И все ваши старания оказались бы напрасными!
– Не влюбиться? Нет, ты совсем глупая, – всплеснула руками тётушка. – Да ты фотографии своего папы в молодости не видела, что ли? Я как забежала к Фаине Георгиевне, как увидела его, так даже пожалела, что Фатима моя уже замужем!
Любовь Гитерман
|
| |
| |
| старый Зануда | Дата: Пятница, 10.02.2017, 02:06 | Сообщение # 380 |
|
Группа: Гости
| Дурная примета
Я вишу на стене в гостиной. На двух гвоздях, в багетной раме, под стеклом. За долгие годы я немного выцвел, но лишь самую малость, чуть-чуть.
— Это Аарон Эйхенбаум, — представляла меня гостям Това. — Мой муж. Он был настоящей звездой. По классу скрипки. Первый сольный концерт. И последний. В ноябре сорок первого. Пропал. Без вести.
Она так и не вышла больше замуж, моя красавица Това, моя единственная. Она тоже под стеклом, в траурной рамке, на сервантной полке напротив. Туда Тову поставил Ося через день после того, как её унесли на кладбище.
— Это папа, — представлял меня гостям Ося, — он ушёл добровольцем на фронт. В августе сорок первого, с выпускного курса консерватории. Меня тогда ещё не было на свете. В ноябре пропал без вести, мы не знаем, где его могила.
Этого не знает никто, потому что могилы у меня нет. Я истлел в поле под Тихвином, там, где Тарас меня расстрелял.
— Как живой, — говорили Осе, глядя на меня, гости. — Потрясающая фотография. Знаете, ваш отец совсем не похож на еврея.
Прибалтийские евреи зачастую блондины или русоволосые, так что я и вправду не похож. Ох, извиняюсь за слова, «был не похож», конечно же. В последнее время я частенько путаюсь во временах. Но мне простительно — повисите с моё на стене. И не просто так повисите, а «как живой». Не дай вам бог, извиняюсь за слова.
— Мама очень любила его, — объяснял гостям Ося. — Она хотела, чтобы я тоже стал скрипачом.
Он не стал скрипачом, наш с Товой единственный сын, зачатый в первую брачную ночь, за два дня до начала войны. Он стал средней руки лабухом, потому что уродился робким и слабохарактерным, а восемнадцати лет от роду взял и влюбился. Один раз и на всю оставшуюся жизнь.
— Дурная примета, — говорила, поджимая губы, Това. — Скверная примета, когда мальчик любит девочку, которая любит всех подряд. Скажи, Аарон? Был бы ты живой, ты бы этого не допустил.
Я был не живой, а всего лишь «как живой», поэтому допустил.
Она была шумная, вульгарная и жестокая, эта Двойра, дочка рыночной торговки с одесского Привоза и фартового домушника с Молдаванки. Она сносно играла на фортепьяно и пела, почти не фальшивя. Она курила вонючие папиросы, пила дешёвое вино, безбожно штукатурила морду и давала кому ни попадя, потому что была слаба на передок. Она приводила домой гоев, когда Ося мотался по гастролям, а Това отхаркивала последствия блокадной чахотки в санаториях. Она никого не любила, эта Двойра, она любила только деньги, когда их много. Она была стервой и курвой, извиняюсь за слова.
Она родила Осе детей, и я всё простил. Простил, даже когда Двойра умотала с заезжим саксофонистом и забыла вернуться, оставив Осю с двухгодовалым Яником и шестимесячной Яночкой на руках.
— Это дедушка, — говорила Яночка, представляя меня одноклассницам. — Его звали Аарон Менделевич Эйхенбаум.
Правда, странно? Курносый и голубоглазый блондин с таким именем.
— Почему странно? — удивлялись не слишком поднаторевшие в еврейском вопросе школьницы. — Катька вон тоже блондинка, и нос у неё картошкой. И у Верки. И у Сани Зайчикова.
— Дуры вы, — авторитетно заявлял Яник. — Одно дело Зайчиковы, совсем другое — Эйхенбаумы. Скажи, дедушка?
Они все пошли в Тову — наш сын, внук и внучка. Они так же, как она, поджимали губы при разговоре, верили в дурные приметы и по всякому поводу советовались со мной. Не лучшая привычка, извиняюсь за слова, — держать совет с покойником, будь он хоть трижды восходящей звездой по классу скрипки. А ещё они все уродились горбоносыми, черноволосыми и кареглазыми, и опознать в них евреев можно было с первого взгляда.
Во мне еврея не опознали. Ни с первого взгляда, ни с какого. Меня опознал Тараска Попов, нацкадр из удмуртской глуши, отчисленный с первого курса по причине патологической бездарности.
— Жидовьё, — объяснял Тараска сочувствующим. — Что такое ленинградская консерватория? Это когда из десяти человек семь евреев, один жид и две полукровки.
— А ты как же? — озадаченно спрашивали Тараску. — Никак полукровка?
— А я одиннадцатый лишний.
Он оказался в двух рядах от меня в колонне пленных, которых гнали по проселочной дороге по направлению к оккупированному Тихвину.
— Господин немец, — подался вон из колонны одиннадцатый лишний. — Господин немец, разрешите доложить. Там еврей, вон тот, белобрысый, контуженный. Настоящий жид, господин немец, чистокровный. Прикажите ему снять штаны, сами увидите.
— Юден? — гаркнул, ухватив меня за рукав, очкастый малый со «шмайссером» в руках и трофейной трехлинейкой на ремне через плечо. — Зер гут. — Он сорвал трехлинейку и протянул Тарасу. — Шиссен.
В десяти шагах от проселка одиннадцатый лишний пустил мне в грудь пулю. Я рухнул навзничь и был ещё жив, когда Тараска срывал у меня с шеи менору на золотой цепочке. Ту, что в день свадьбы подарил мне старый Зайдель, Товин отец, потомственный санкт-петербургский ювелир. Менора, золотой семисвечник, залог и символ еврейского счастья, отошёл к Тарасу Попову, бездарному скрипачу из-под Ижевска, сыну ссыльного пламенного революционера и местной испитой потаскухи. Извиняюсь за слова.
— Хорошую вещь повредил, — посетовал Тараска, осмотрев менору с отколотой пулей третьей слева свечой. — У, жидяра!
Он, воровато оглянувшись, упрятал моё еврейское счастье за пазуху, сплюнул на меня и повторным выстрелом в голову добил...
— Дурная примета, папа, — сказал мой любимый внук Яник моему любимому сыну Осе, — я вчера видел одного гоя.
— Большое дело, — пожал плечами Ося. — Я вижу их много и каждый день.
— Это особенный гой. Он ухлестывает за Яночкой.
У Оси клацнула искусственными зубами вставная челюсть.
— Как это ухлестывает? — побагровел он. — Что значит ухлестывает, я спрашиваю?
Ося растерянно посмотрел на меня, потом на Тову. Ни я, прибитый гвоздями к стене, ни Това в траурной рамке не сказали в ответ ничего. Да и что тут можно сказать, даже если есть чем.
— Знакомьтесь, — радостно прощебетала на следующий день Яночка. — Это мой папа Иосиф Ааронович. Это мой старший брат Янкель. А это… — она запнулась, — Василий.
— Василий? — ошеломлённо повторил Ося, уставившись на длинного, нескладного и веснушчатого молодчика с соломенными патлами. Вид у «особенного гоя» был самый что ни на есть простецкий. — Очень э-э… очень приятно, — промямлил Ося. — Василий, значит.
Василий смущённо заморгал, шагнул вперёд, затем назад и затоптался на месте. Веснушки покраснели.
— А это дедушка, — представила меня Яночка, — Аарон Менделевич Эйхенбаум. Фотография сделана на его первом сольном концерте. И последнем. Дедушка добровольцем ушёл на фронт и пропал там без вести.
Василий проморгался, шмыгнул курносым, под стать моему, шнобелем и изрёк:
— Как живой.
Наступила пауза. Моя родня явно не знала, что делать дальше.
— А вы, собственно, — нашелся наконец Ося, — на чём играете?
— Я-то? — удивлённо переспросил Василий. — Я вообще-то, так сказать, ни на чём. Я фрезеровщик.
— Дурная примета, — едва слышно пробормотал себе под нос Яник, и вновь наступила пауза.
— Значит, так, — решительно прервала её Яночка. — Мы с Васей вчера подали заявление в ЗАГС.
— Как? — ошеломлённо выдавил из себя Ося. — Как ты сказала, доченька? Куда подали?
— В ЗАГС.
Это был позор. Большой позор и несчастье. У нас в роду были музыканты, поэты, художники, ювелиры, шахматисты, врачи. У нас были сапожники, портные, мясники, булочники и зеленщики. У нас никогда, понимаете, никогда не было ни единого фрезеровщика. И никогда не было ни единого, чёрт бы его побрал, Василия, извиняюсь за слова.
Мой робкий слабохарактерный сын Ося, наливаясь дурной кровью, шагнул вперед.
— Никогда, — в тон моим мыслям просипел он. — Никогда в нашей семье…
— Папа, прекрати! — звонко крикнула Яночка.
Ося прекратил. Он мог бы сказать, что его дочь учится на третьем курсе консерватории по классу виолончели и ей не подобает брачный союз с неучем и простофилей. Он мог бы сказать, что его отец перевернётся в гробу от подобного мезальянса. Но он вспомнил, что неизвестно, есть ли у меня этот гроб, и не сказал ничего.
— Вася хороший, добрый, у него золотые руки, — пролепетала Яночка. — А ещё у него нет ни единого родственника, Вася круглый сирота, детдомовский. Зато теперь у него есть я. И потом… У нас с ним скоро будет ребенок.
По утрам Вася, отфыркиваясь, тягал гантели, фальшиво напевал «Не кочегары мы, не плотники» и шумно справлял свои дела в туалете. По вечерам он поглощал немереное количество клецок, гефилте фиш и прочей еврейской пищи, которую вышедшая в декрет Яночка выучилась ему готовить. Заедал мацой и усаживался к телевизору смотреть хоккей.
— Азох ой вей, — бранился набравшийся еврейских словечек Вася, когда очередные «наши» пропускали очередную плюху. — Шлимазлы, киш мир ин тохас.
По весне Яночка родила Васе близняшек.
— Това и Двойра, — с гордостью представил неотличимых друг от дружки новорождённых счастливый отец. — Това и Двойра Васильевны.
— Васильевны… — эхом отозвался ошеломлённый Ося.
— Ну да, — расцвел Вася. — Правда, они замечательные?
— Скажи, дедушка, — подалась ко мне сияющая Яночка.
«Клянусь, они замечательные, — не сказал я. — Даже несмотря что Васильевны».
— Папа, нам надо поговорить, — подступилась к Осе Яночка полгода спустя. — Мы с Васей собираемся подать заявление.
— Опять заявление, — проворчал Ося. — Вы, похоже, только и знаете, что их подавать. И куда?
— В ОВИР.
— Куда-куда?
— В ОВИР, — неуверенно пролепетала Яночка. — Мы с Васей решили.
— На предмет выезда на историческую родину, в Государство Израиль, — оторвавшись от хоккея, уточнил Вася.
— Что-о?! На какую ещё родину?
— На историческую родину моих детей.
— Вы что, рехнулись? — побагровел Ося. — Какой, к чертям, Израиль? Что вы там будете делать?!
— Не «вы», а «мы», — поправила Яночка. — Мы все будем там жить.
— На какие шиши?
— Папа, — укоризненно проговорил Вася. — Вы что же, думаете, на исторической родине не нужны фрезеровщики? Я собираюсь принять гиюр. Скажите, дедушка? — обернулся он ко мне.
Я не хотел ни в какой Израиль. Я прожил…
Извиняюсь за слова. Я не прожил здесь, на стене, четыре десятка лет. Я не сказал ничего. Я лишь осознал, что у меня стало одним родственником больше. К многочисленным Менделям, Зайделям и Янкелям прибавился длинный, веснушчатый, с соломенными патлами особенный гой Василий.
Следующий год моя родня провела в спорах. Спорили каждый вечер, а по выходным сутки напролет. Приводили неопровержимые аргументы в пользу отъезда и не менее неопровержимые против, а за поддержкой апеллировали ко мне. Я молчал. Мне нечего было сказать. За меня сказала Това.
Ночью, накануне которой была достигнута договорённость паковать чемоданы, Това упала с сервантной полки траурной рамкой вниз.
— Дурная примета, — ахнул наутро пробуждающийся с петухами Вася. — Мы никуда не едем. Бабушка против.
Тем же вечером в знак семейного примирения Яник с Васей надрались. До изумления, извиняюсь за слова. Вернувшийся с кабацкого выступления Ося уже через полчаса догнал обоих.
— В Израиле в-виолончелистки нужны? — икал, поджимая губы, Яник. — Бабушка права: н-не нужны. А п-пожилые скрипачи? Там своих как собак нерезаных. А м-музыкальные критики? Я вас умоляю.
— По большому счёту, — уныло соглашался Вася, — фрезеровщики там тоже на фиг никому не нужны. А те, что на иврите ни бум-бум, — тем более.
Вася привычно включил телевизор.
— И хоккея там нет, — резюмировал он. — Какой там может быть, скажите, хоккей? Правда, дедушка?
Я, как обычно, не сказал ничего. И не только потому, что не имел чем. Хоккея сейчас не показывали и у нас. Вместо него показывали Тараску. На фоне сложенных в штабеля мертвецов.
— Не все военные преступники понесли заслуженное наказание, — сообщил голос за кадром. — Некоторым удалось скрыться, как, например, надзирателю могилёвского концентрационного лагеря по кличке Скрипач. Вы сейчас видите его фотографию в кадре. Скрипач виновен в смерти сотен…
Я не слушал. Я смотрел Тараске в глаза.
«Гнида ты, Скрипач, — не сказал я. — Будь ты, извиняюсь за слова, проклят».
Два года спустя подошла Васина очередь на кооператив в новостройках, и паковать чемоданы таки пришлось.
— Ну что вы, папа, — привычно переминаясь с ноги на ногу и держа Тову на левом плече, а Двойру на правом, утешал всплакнувшего тестя Вася. — Мы будем часто видеться. Девяткино — это не какой-нибудь там Тель-Авив. Правда, дедушка?
«Правда, — не сказал я. — С новосельем вас, дети. Маззл тов».
Мне было очень тяжело целых три года, потому что из Девяткино, хотя оно и не Тель-Авив, мои внуки и правнуки приезжали не слишком часто. Я по-прежнему висел на стене в гостиной, понемногу выцветая, и вместо хоккея, к которому привык, смотрел на затеявшего перестройку унылого Горбачёва с родимым пятном во всю лысину.
А потом у нас появилась Сонечка.
Она была миниатюрная, говорливая и непоседливая, с копной вороных кудряшек, разлетающихся на бегу. Она носилась по квартире безостановочно, будто кто её подгонял, и даже за фортепьяно не могла усидеть дольше пяти минут. Она щебетала без умолку и непрестанно наводила порядок — даже пыль с меня стирала по пять раз на дню. Так продолжалось до тех пор, пока она не родила Янику Машеньку.
Впервые увидев свою третью правнучку, я обомлел под стеклом. Она была… Она была курносая и голубоглазая, с ямочками на щеках и светлым пушком на макушке. Она была вся в меня.
— Это что же, еврейская девочка? — засомневался при виде Машеньки Ося.
— Она ещё потемнеет, папа, — утешил пританцовывающий вокруг новорождённой Яник. — Чёрный цвет доминантен. Правда, дедушка?
«Неправда, — не сказал я. — В нашем с тобой случае это неправда. Она не потемнеет».
— Это прадедушка, — представляла меня одноклассницам восьмилетняя Машенька, — Аарон Менделевич Эйхенбаум. Он мог стать выдающимся скрипачом, но ушёл добровольцем на фронт и пропал там. Прадедушка на этой фотографии как живой. Мы с ним очень похожи. Мама с папой говорят, что одно лицо.
— Одно лицо, — подтверждала притихшая и присмиревшая после родов Сонечка. — Дедушкины гены возродились в третьем поколении. Так бывает.
Так бывает. Машенька была не просто похожа на меня внешне. Она оказалась ещё и талантливой. Талантливой, как никто больше. В пятнадцать лет она вышла на сцену Оперного театра с первым своим сольным концертом. Она играла Мендельсона, Моцарта и Брамса, а когда раскланялась, профессура консерватории по классу скрипки вынесла единогласный вердикт: «Восходящая звезда. Виртуоз».
Я был счастлив. Так, как только может быть счастлив покойник, семьдесят лет назад расстрелянный у просёлочной дороги под Тихвином. Моя третья правнучка подарила мне ещё одну жизнь. Она стала моим воплощением, моим вторым «я» на нашей, извиняюсь за слова, яростно прекрасной и отчаянно грешной Земле.
К восемнадцати Машенька объездила с концертами всю Европу, за два следующих года — весь мир. В день своего двадцатилетия она давала концерт для скрипки с оркестром на сцене санкт-петербургской Капеллы. А вечером у нас ожидался семейный ужин. В тесном кругу, для своих.
Сонечкиными стараниями праздничный стол ломился от блюд, а неотличимые друг от дружки Това и Двойра таскали с кухни всё новые и новые.
Успевшие в ожидании именинницы ополовинить бутылку сорокоградусной Вася и Яник пели вразнобой «Не кочегары мы, не плотники». Старенький Ося скрипучим голоском подтягивал. Наводила последний марафет располневшая Яночка. А потом… Потом отворилась входная дверь, и в гостиную впорхнула Машенька. Светловолосая и голубоглазая, с ямочками на щеках. Но я не смотрел на неё, не смотрел на своё новое воплощение на Земле. Потому что в дверях застыл рослый плечистый красавец с вороными волосами до плеч. Он был в смокинге, и красная бабочка кровавым росчерком перерезала белоснежную рубаху.
— Знакомьтесь, — зазвенел Машенькин голос. — Это мой папа, Ян Иосифович Эйхенбаум. Мама, Софья Борисовна. Дедушка…
Она перечисляла родню, но я не слышал — у меня разрывалось от боли отсутствующее сердце, потому что я уже понимал, знал уже, что…
— А это Тарас Попов, — пробились сквозь стекло новые слова, — мой друг. Он дирижировал оркестром сегодня. Он очень талантливый, но это не главное. Час назад Тарас сделал мне предложение.
Наступила пауза. Сквозь стекло я смотрел на застывшую на сервантной полке Тову в траурной рамке, и мне казалось, что Това плачет.
— А это прадедушка, — представила меня Машенька. — Аарон Менделевич Эйхенбаум. Взгляни: он на фотографии как живой. Я пошла в него, прадедушкины гены возродились в третьем поколении.
— Я тоже похож на покойного прадеда, — пробасил рослый красавец Тарас Попов. — Меня и назвали в его честь. У нас есть семейная реликвия — менора, которую подарил прадеду на фронте его смертельно раненный еврейский друг.
В ней не хватает одной свечи, там, куда угодила пуля. Мой дед носил её, потом отец, теперь я. Менора дарит нашему роду счастье. Сегодня оно досталось мне.
В этот миг сердце, которого у меня не было, расшиблось о стекло. Я рванулся с гвоздей, выдрал их из стены и обрушился вниз. Багетная рама, приложившись о край стола, раскололась. Я упал на пол плашмя, разбрызгав по сторонам осколки. Опрокинувшийся графин томатным соком залил мне грудь и кровавым языком лизнул лицо.
— Не бывать, — услышал я последние в своей второй, уходящей жизни слова. — Не бывать! Дедушка против.
этот рассказ Майка Гелприна опубликован в журнале "Русский пионер" №55.
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:38 | Сообщение # 381 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Статус: Offline
| отлично написано и легко читается, но ... "послевкусие"... ... печально как-то и неспокойно на душе.
сначала на Васю подумал(ведь чувствовал, что случиться должно что-то с Тарасом связанное!), но такой финал неожиданный...
вот и думаю, а если б уехали?!.....
видимо так предначертано было.
Сообщение отредактировал Kiwa - Вторник, 14.02.2017, 10:43 |
| |
| |
| Пинечка | Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:22 | Сообщение # 382 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1453
Статус: Offline
| от судьбы не уйти, да-с !..
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Четверг, 16.03.2017, 07:31 | Сообщение # 383 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Статус: Offline
| «Алик и Адик»
Городок был маленький, провинциальный, весь в садах.
Посреди города протекала речка — не широкая, но чистая и, главное, своя. Городская. Всё лето в ней купались мальчишки и даже взрослые. Переплывали от одного берега до другого.
На берегу стоял зоопарк — небольшой и непредставительный. Слона в нём не было, и тигра тоже не было. А крокодил был. Его звали Алик, производное от слова «аллигатор».
Многие считали, что крокодил ненастоящий, чучело.
Потому что он не двигался, всё время находился в одной позе и смотрел перед собой безо всякого выражения. Глаза его были тусклые от пыли.
Некоторые видели, как работница зоопарка тётя Клава протирала его глаза мокрой тряпкой. А разве возможно у живого крокодила протирать глаза?
У него пасть от уха до уха и зубы, как ножи-заточки. Вся морда состоит из пасти. Он лязгнет зубами пару раз — и нет тёти Клавы. Так что — конечно, чучело, муляж.
Пробовали на всякий случай кидать крокодилу лакомства. Он не реагировал.
Это ещё раз подтверждало: в вольере чучело, и его живот набит соломой или старыми газетами, а может, опилками.
Но однажды произошло стихийное бедствие.
Где-то прорвало плотину, и город залило водой. Река вышла из берегов.
Вода поднялась и подмыла зоопарк. Разрушила железную решётку вольера и вымыла Алика со своего места. Вынесла в речку.
И тогда все увидели невероятное...
Алик заработал лапами, проплыл в одну сторону реки, потом в другую, потом стал кувыркаться через голову, и его хвост шумно стучал о воду. Мелькали попеременно морда и хвост.
Далее Алик взмыл над водой по пояс, и все увидели его счастливое лицо, иначе не скажешь.
Он улыбался. Зубы его были молодые и белые. А глаза горели, как два изумруда.
Это был не плотоядный блеск хищника.
Нет. Это было сияние счастья.
Алик развёл передние лапы в разные стороны и плавно задвигался, как в ансамбле «Берёзка».
Потом он расположил обе лапы в одну сторону на манер лезгинки и стал нарезать круги по воде.
Алик радовался, ликовал. Снова кувыркался и снова вздымал себя над водой.
Светило солнце, шёл весёлый грибной дождь. Весь город забыл про неудобство наводнения и высыпал на берег. Стояли по грудь в воде. Многие приплыли на лодках.
Счастье крокодила передалось людям. Счастье так же заразно, как и несчастье.
Люди радовались, глядя на свободного Алика. Хоть он и аллигатор, но ведь тоже живая душа.
К тому же он ничего плохого городу не сделал. Просто лежал себе и лежал, показывал свою спину из крокодиловой кожи.
А сейчас у него праздник. И люди тоже радовались, хоть и вода.
А вода что? Она же не вечно будет стоять так высоко. Осядет. И уйдёт.
Так и было. Плотину починили в аварийном темпе. Вода ушла.
Пожарные накинули на Алика сетку и выволокли его из реки. Вернули в вольер.
Пришли сварщики, починили решетку. И всё как было: вольер, в нём крокодил Алик.
На другой день его глаза стали тусклыми, хвост неподвижно замер, на морде никакого выражения.
И снова многие засомневались: а может, это чучело?..
И было невозможно себе представить, что тот крокодил, в реке, и этот, в вольере, — один и тот же экземпляр.
Эту историю рассказала мне моя бабушка, когда я была маленькая.
А теперь я сама бабушка. И у меня есть внучка Даша.
Я одела на Дашу новое пальто: синее, с двумя рядами золотых пуговиц. И мы с ней отправились в зоопарк.
Первым делом мне захотелось посмотреть на крокодила. Он находился в стеклянном боксе для своей собственной безопасности, поскольку некоторые подвыпившие посетители кидали в крокодила пустые бутылки.
На боксе висела табличка с информацией: миссисипский аллигатор, подарен Советскому Союзу правительством Великобритании в 1946 году.
До войны он обитал в берлинском зоопарке, а также успел побыть питомцем личного зверинца фюрера. Его имя было Сатурн, а за глаза — Гитлер и Адольф, сокращенно — Адик.
Сейчас Адику 85 лет.
Я смотрю на него и вижу: старик. Казалось бы, на аллигаторах возраст незаметен. Ещё как заметен.
Пузо висит. Подбородок висит, как будто он положил в рот кирпич.
Я вглядываюсь в его глаза под тяжёлыми веками и подозреваю, что у Адика депрессия. Его ничего не радует и не интересует.
Он не обращает внимания на посетителей, лежит и грустит и, возможно, вспоминает.
Говорят, что именно Адик стал прототипом крокодила Гены... Это маловероятно.
Гена — добродушный, положительный. Добродушных крокодилов в природе не бывает, иначе зачем природа снабдила их такими зубами?
А вот грустные крокодилы бывают. И есть. Они тяжело переживают неволю и превыше всего ценят свободу.
Глаза у Адика большие и тусклые. Хочется протереть их тряпкой. Говорят, он оживляется только в тех случаях, когда слышит немецкую речь. Тогда он приподнимает голову и жадно вслушивается.
Он вслушивается в свою молодость, в то время, «когда фонтаны били голубые и розы красные росли»…
Внучка стала дергать меня за руку. Ей надоело стоять на одном месте.
Мы перешли к птицам.
В клетке сидела пара попугаев, обнявшись крыльями. Они не расставались.
Молодой парень, работник зоопарка, сыпал им корм.
— Они так и будут сидеть? — спросила я.
— У них любовь, — объяснил парень. — Это его вторая жена.
— А первая где?
— Он её заклевал.
— До смерти? — испугалась я.
— Нет. Но пришлось их развести по разным клеткам. Они не могли ужиться.
— Почему?
— Лола была скромная, безответная. Она его раздражала. Ему хотелось втереть её пяткой в землю.
А эта, вторая, ни с кем не считается, дерётся, вопит, законченная оторва. Он её обожает.
— Всё как у людей, — заметила я.
— Ну конечно. Люди — ведь это тоже животный мир.
Мы с Дашей посмотрели жирафа Самсона и слона по имени Памир.
— А кто умнее, слон или человек? — спросила Даша.
— А как ты думаешь?
— Слон. У него голова больше...
Я посмотрела на часы. Пора было возвращаться домой.
— Идём к обезьянам, — потребовала внучка.
Я не люблю обезьян за то, что они действительно человекообразные. Шарж на человека. Подчеркивают всё отвратительное в человеке.
— Пойдём! — настаивала Даша. — Они меня ещё не видели.
Я поняла: моя внучка приходила в зоопарк не для того, чтобы посмотреть, а чтобы показать себя в новом пальто.
Возможно, звери её запомнят. А так как многие звери и птицы живут дольше людей, то вполне вероятно, что они узнают Дашу через двадцать лет и даже через пятьдесят, когда она придет сюда со своими внуками. Запомнят не только Дашу, но и её пальто — синее, с золотыми пуговицами, похожее на морской китель.
Виктория Токарева
|
| |
| |
| дядяБоря | Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:01 | Сообщение # 384 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 415
Статус: Offline
| неподражаемая Виктория Самойловна!
|
| |
| |
| Сонечка | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 02:13 | Сообщение # 385 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Статус: Offline
| Вельветовые штаны
В Мише всегда жило два человека.
Полчеловека в нем было русского – от мамы, учительницы языка и литературы, вторая часть – ненавистная ему – была от еврейского папы, которого он никогда не видел, но ненавидел… всю жизнь: за нос свой, за курчавость, за то, что он бросил маму, когда Миша ещё не родился.
Мама была божеством. Это был первый человек, которого он увидел в этом мире. Она была для него первой женщиной, и даже после, когда он стал любить своих женщин, он всегда понимал, что они её жалкая копия, и первые две жены, которых он привел домой ещё при жизни мамы, всегда ей проигрывали и, в конце концов, уходили, забрав детей.
Мама была всегда.
Когда он ещё не мог ходить, он не мог пробыть без неё даже минуты, он сосал её грудь почти до двух лет, и его отняли от её сиськи, используя насилие. Её грудь мазали горчицей, заманивали соской с мёдом, вареньем и сахаром, но он рвался к её груди, которая его защищала своим теплом и нежностью, он плавал в ней, потом ползал по ней, плыл на ней, как на ковчеге, в непознанную жизнь и долго не мог пристать к своему берегу, не мог оторваться от маминой сиськи, – так говорили две бабки, мамина мама и её родная сестра, у которых он смиренно оставался, когда мама ходила на работу, но он ждал, ждал, ждал и никогда не ложился спать, пока она не приходила.
Единственное, чем бабки могли его успокоить, были книги, они по очереди читали книги из большой библиотеки деда-профессора, все подряд – от античных трагедий до устройства мироздания, вторая бабушка читала ему сказки народов мира, а потом «Библию». Он научился читать в четыре года и потом уже сам читал всё подряд, как ненормальный.
Он и был ненормальный для всех остальных детей во дворе и их родителей. Ну что можно сказать о мальчике, который во дворе не играет, ходит гулять только с мамой в парк, где они оба садились на лавочку, и оба открывали книги и читали, и грызли яблоки, и пили чай из термоса, а потом уходили домой?..
Миша долго держал маму за руку, и только в третьем классе он вырвал свою руку из маминой, когда влюбился в учительницу английского языка.
Он поступил в школу в мамин класс и был счастлив, что целый день мог видеть маму. Миша не мог её подводить и учился, и был первым учеником, ему это было нетрудно.
В третьем классе он впервые узнал, что вторая половина его не всем нравится. Мальчик из соседнего класса сказал ему, что он жид. Миша знал, что есть такой народ – евреи, но он даже не мог предвидеть, что он, Миша Попов, имеет какое-то отношение к этому народу.
Он вернулся из школы задумчивым и несчастным, дома были только бабки – и они смущенно пытались объяснить ему, что все люди – братья, но его это не устроило, и когда пришла домой мама, усталая и с горой тетрадок, он не бросился к ней.
Миша всегда помогал ей, снимал с неё обувь и пальто, потом ждал, когда бабки её покормят, и только уж потом садился с ней вместе проверять тетрадки, и это было их время, когда они говорили обо всём.
На этот раз он, выдохнув, выпалил ей:
– Мама, я что, еврей?
Мама вспыхнула и покрылась красными пятнами, потом вытерла сухие глаза.
Она ждала этого вопроса, но надеялась, что это услышит позже. Она не привыкла врать своему сыну и пошла в спальню. Вернулась через пару минут и закурила. Она никогда не курила при нём, не хотела подавать дурной пример, но сегодня у неё не было сил сохранять лицо.
Она молча показала Мише чужого мужика – толстого, кучерявого, с весёлым глазом, он в одной руке держал гитару, а другой властно – маму за плечо.
– Это твой отец, – сказала она глухо. – Он живет в другой стране, у него другая семья.
И замолчала.
Миша с ужасом и отвращением смотрел на этого долбаного барда и сразу не полюбил его. Он просто понял, что одна его половина отравлена ядовитой стрелой, у него первый раз кольнуло в самое сердце, и он упал на пол.
В доме начался крик. Пришел доктор Эйнгорн, друг одной из бабок, он послушал Мишу и сказал, что это нервное и бояться не надо. Мишу уложили в постель, и круглосуточный пост из бабок следил за ним, как за принцем.
Он неделю не ходил в школу, но зато прочитал весь том энциклопедии, где были статьи про евреев.
Многое ему нравилось, но только до тех пор, пока образ далекого папы не закрывал горизонт, и тогда он кричал невидимому папе: «Жид! Жид! Жид!» – и плакал от отчаяния под одеялом.
С того жуткого дня он стал немножко антисемитом. Он издевался над Эллой Кроль, сидевшей с ним за одной партой.
Раньше он с ней дружил – она тоже много читала, неплохо училась, – но теперь она стала врагом его половины, и он стал её врагом и мучителем.
Он истязал её своими словами, он был в своей ненависти круче Мамонтова, который каждый день бил её сумкой по голове и предлагал поиграть в «гестапо».
Элла молчала, не отвечала, пересела к Файзуллину и стала смотреть на Мишу с явным сожалением.
Её родители, пожилые евреи, видимо, научили её, как надо терпеть, и она терпела – единственный изгой в школе интернациональной дружбы, куда приезжали зарубежные делегации поучиться мирному сосуществованию.
Миша всегда выступал на этих сборищах со стихами разных народов, и ему хлопали все, кроме Кроль и Мамонтова, который подозревал, что Миша не совсем Попов, но в журнале в графе «национальность» у Попова стояла гордая запись «русский», сокращенная до «рус.».
Мамонтову крыть было нечем, но дедушка Мамонтова в прошлом был полицаем, и он научил его игре, в которую он играл на Украине в годы войны.
Они сидели на окраине городка и с сослуживцами на глаз выцарапывали из толпы беженцев – евреев. Дедушка Мамонтова имел такой нюх, что определял евреев, даже если в них текла восьмушка крови подлого семени, но он ещё с десяти метров выщемлял из толпы комиссаров, и тут ему равных не было.
На исходе войны он убил красноармейца и с его документами стал героем. До сих пор ходит по школам и рассказывает о своих подвигах.
Мамонтова Миша боялся. Когда тот пристально смотрел ему в глаза, он всегда отводил взгляд и склонял голову.
Мамонтову он решительно не нравился, но мать Миши была завучем. И Мамонтов терпел, как человек, уважающий любую власть.
«Власть от Бога», – говорила ему бабушка и крестилась при этом, и внучок тоже так считал до поры до времени..
Миша собирал металлолом без охоты, но с удовольствием ходил за макулатурой: там, в пачках, связанных бечевкой, он находил старые газеты, никому ненужные книги с ятем и много другого, чего другим было не надо. Он брал пачки макулатуры, шёл в парк и застревал на долгие часы, разбирая пожелтевшее прошлое.
В том драгоценном хламе он многое нашёл из времени, которое не застал, и многое понял из старых газет про свою родину; так он узнал про Сашу Черного, Аверченко, Зощенко и Блока, там были имена, которые в школе только упоминали, а он знал наизусть и удивлял учителя литературы, который даже не слышал о них.
Он перестал ходить в шахматный кружок, когда услышал от Мамонтова, что это еврейский вид спорта, и записался на стрельбу из лука.
Это редкий вид спорта, на который ходили в основном некрасивые девочки: когда натягивают тетиву, она должна упираться в середину носа, и у тех, кто занимался давно, нос был слегка деформирован, никакая красивая девочка такого себе не позволит.
Робин Гудом он не стал, но, проходя по двору с такой амуницией, он имел авторитет у неформальной молодежи, которая сидела на террасе детского сада во дворе дома и пила вино под песни Аркаши Северного и других певцов уголовной романтики. С неформалами сидели их марухи, которые служили им поврозь и вместе.
Миша был отъявленным индивидуалистом и солистом по натуре. Один раз он уже испытал страсть: когда к ним в Тушино приехала кузина из Вологды, студентка пединститута. Она неделю шастала у них по квартире в трусах и без лифчика, считая Мишу китайской вазой. Бабки гоняли её, но Миша успел рассмотреть её анатомию почти в деталях, и, уезжая, она прижала его голову к своей немаленькой груди, и у него голова закружилась, он чуть не потерял сознание, задохнувшись в ущелье меж двух её выпуклостей...
Она уехала, и он ещё долго помнил этот головокружительный запах духов и пудры на бархатных щечках.
Он даже написал стихи об этом переживании, подражая Есенину.
Он начал созревать, и тут с ним случилась катастрофа: у него появилась перхоть – мелкая белая пыль на плечах, от которой он никак не мог избавиться. Мамонтов отметил в нём эту перемену и сказал громко на весь класс:
– Попов – пархатый.
Все засмеялись, кроме Эллы, которая вроде даже его пожалела, но не подошла.
Миша вернулся домой и два часа мыл и чесал голову, белый снег сыпался с головы, и он отчаялся.
Пошел к бабкам на кухню искать спасения, бабки переглянулись и дали ему касторовое масло, которое он стал втирать каждое утро перед школой, и ещё он стал мамиными щипцами расправлять волосы, он хотел прямые волосы, как у Звонарёва, с чёлкой, но кудри завивались, щипцы не помогали.
Мама сначала смеялась над ним, а потом поняла его усилия и сказала ему, что кудри у тех, у кого много мыслей, и его волосы станут прямыми, как только мысли улетят от него к другому парню, а он станет дураком с прямыми локонами, и мужчине не стоит придавать такое значение внешности.
Он долго стоял против зеркала и смотрел на себя, он себе не нравился, его раздражало всё: рост, вес, сутулость, перхоть, прыщи. Он хотел быть Жюльеном Сорелем из «Красного и черного», а в зеркале он видел толстого мальчика в очках, не похожего даже на Пьера Безухова, и ещё перхоть.
Он накопил два рубля и пошел к косметологу в платную клинику. Женщина с фамилией Либман осмотрела его, потом заглянула в карточку, удивилась и сказала:
– Знаете, Попов, я могу выписать вам кучу мазей и лекарств, но у нас, евреев, это наследственное, у нас слишком много было испытаний, и это плата за судьбу. Относитесь к этому дефекту нашей кожи с другой точки зрения, считайте, что это горностаевая мантия, несите её достойно, как испанские гранды, которыми мы стали после инквизиции, это знак отличия, а не физический недостаток. Я вас, конечно, понимаю, вы мальчик, вам нравятся девочки. Встречайтесь с нашими девочками, и у вас не будет проблем..
Он вспыхнул и сказал ей грубо:
– Я не еврей.
Хлопнул дверью и выскочил на улицу.
Доктор Либман, качая головой, сказала ему вслед:
– Ты не еврей, мальчик, но что делать, если все евреи похожи на тебя...
Мантия лежала на его плечах и доводила до исступления, он даже хотел побриться наголо, но посмотрел на голый череп физика Марка Львовича, которого обожал, и заметил на его лысине красные пятна и сугробы на плечах.
Он передумал и стал с этим жить. Он умел усмирять себя, находил аргументы и терпел своё несовершенство с тихой покорностью.
Окончив школу на год раньше, Миша поступил в университет на филолога и окунулся в чудесный мир слов. Он плыл в этом море, как дельфин, постигал его пучины и бездны, проникал через толщи лет и эпох – Миша был в своей стихии. Он пробовал писать в какие-то журналы, его даже напечатали, и Миша был счастлив. Его бабки купили сто журналов с его текстом и раздали всем знакомым.
И был ужин, где его семья – самые любимые женщины – пили какое-то дрянное винцо. Мама ему налила настойки, и он первый раз выпил за первый гонорар. Миша был счастлив, но утром пришла повестка.
В тот год студентов стали брать в армию. Старухи заплакали. Они помнили войну, их мальчики остались там, а они остались в этой жизни одни без любви.
Маму бабка родила без любви, из благодарности к деду-профессору, который спас их от военных невзгод.
Бабки рыдали, мама звонила доктору Эйнгорну, и он обещал подумать. И тогда Миша встал и сказал:
– Я иду, как все, я прятаться не буду, я не еврей какой-нибудь.
И дома стало тихо. И все поняли, что он не отступит. И он пошёл.
Он попал в подмосковную дивизию, в образцово-показательную часть, и наступил ад.
Из ста килограммов за месяц он потерял двадцать, за следующий – еще пятнадцать; он два раза хотел повеситься; он падал во время кросса, и все его ненавидели, и он вставал, и его несли на ремнях два сержанта, а потом били ночью хором, всей ротой, но он выжил, он не мог представить себе, что его привезут домой в закрытом гробу и все три женщины сразу умрут, и он решил жить, и сумел. Через два месяца его забрал к себе начальник клуба, и жизнь приобрела очертания. Приехали мама и старухи и не узнали его: он стал бравым хлопцем – стройным, курящим и пьющим, он уже стал мужчиной, с помощью писаря строевой части Светланы, женщины чистой и порядочной, сорокопятки, так она называла свой возраст.
Она взяла его нежно и трепетно, с анестезией: заманила на тортик из сгущёнки и печенья, а в морсик щедро сыпнула димедрольчика, и он стал мужчиной и ничего не почувствовал. Потом ещё пару раз она брала его силой. А потом он сказал ей, что ему хватит, и она перешла к следующей жертве, коих в полку было у неё лет на триста.
Он стал выпивать вполне естественно, курить папиросы и выпускал один полковую газету «На боевом посту». Так прошло два года, и он вернулся ровно 17 августа 1991 года и попал в другую страну.
Страна вступила в эпоху перемен. Он проспал сутки, а потом купил в киоске пачку газет, засел в туалете и вышел с твердым убеждением, что грядет революция, и она случилась ровно через сутки.
Он пошел к Белому дому и попал в первые ряды защитников. Увидел людей, которых раньше не знал. Он чувствовал, что они есть, но вот реально увидел первый раз, их были тысячи, их были тьмы и тьмы, и они собирались стоять до конца.
А потом была ночь с 19-го на 20-е, и пошли танки, и три парня, с которыми он познакомился на баррикадах, легли под танки, и танки сделали из живых мальчиков, ровесников его, бессмысленных жертв и героев.
Их подвиг помнят безутешные родители и совсем немного людей. Те, ради кого они погибли, стараются реже о них вспоминать, люди не любят долгих страданий. А мальчиков нет, и их родители каждый день жалеют, что пустили их во взрослые игры, не закрыли дома.
Были бы твёрже – были бы с детьми, а теперь у них есть посмертные ордена и гранитные памятники, где их дети смеются каменными губами…
Сначала рухнула одна бабка, следом за ней – другая. Рухнули, как колонны в аквапарке, и похоронили вместе с собой Храм его семьи.
Они с мамой стали жить вместе с его новой женой и дочкой, и квартира, которая осиротела, сразу наполнилась топотом детских ножек и криком, который звучал музыкой. Мама полюбила девочку со звериной силой, её нельзя было оторвать от неё, она даже обижала жену, которая тоже желала любить своего ребёнка, но бабушка решила, что родители могут только испортить девочку. Она терпела выходные, когда они болтались дома, зорким соколом смотрела, чтобы они её не повредили и не отравили, в будние дни царила, вцепившись в девочку, как в спасательный круг своей уходящей жизни.
Когда девочка подбегала на нетвёрдых ножках, бабушка топила свое лицо в её кудряшках, пахнущих её детством, и теряла сознание, и не могла с ней расцепиться. А весной она увезла её на дачу, где никто не мешал ей пить бальзам её щечек, волос, ручек и ножек.
...Когда Миша встречал признаки еврейской темы в любом разговоре, он становился неистовым. Болезненно и странно много читал по этой теме, пытаясь понять природу своей ненависти.
Аргументов было полно и в жизни, и в книгах: толпы евреев жили в истории разных народов, их гнали, мучили, но они восставали и на пустом месте становились богатыми, влиятельными и сильными. Их было мало, но они всегда занимали много места в чужих головах, их слова, музыка и книги смущали целые страны и народы, и, в конце концов, им всегда приходилось уходить и всё строить заново.
Его учителя-евреи в школе были замечательными людьми, они не торговали, не давали деньги в рост, не крутили и не мутили, они просто учили детей и жили бедно, как все, он искал в них что-то тайное, липкое и нехорошее – и не находил, он даже любил своих учителей, и даже стыдился этого.
В университете у него тоже были профессора-евреи, которых он очень уважал и видел их жизнь, ничем не примечательную. Он знал врачей и инженеров, соседей и знакомых и не находил поводов для ненависти, и тогда он перестал искать врагов вокруг себя и стал искать их в истории, и нашел.
Пытливому глазу стали попадаться книги, где евреи представлялись чудовищами. В России они сделали революцию и разрушили империю, и это его успокаивало. В своих поисках он иногда чувствовал себя ненормальным, книги, где вскрывалась подлая суть предков его отца, его усмиряли, он временно успокаивался, но проходило время, и вулкан ненависти опять плевал черную лаву немотивированной злобы к людям, которых он считал недочеловеками, и ему очень помог Гитлер со своей яростной книгой «Майн кампф», где доводов нашлось достаточно, но убийства, как культурный человек, он не одобрял, хотя целесообразность окончательного решения еврейского вопроса, как учёный, понимал.
Ему было противно, что его православная вера была вынуждена ковыряться во всех этих Моисеях, Исааках, Ноях, Эсфирях, Суламифях, Давидах и Голиафах – зачем это нужно русскому человеку, зачем ему эти мифы и легенды чужого народа...
Он даже спросил своего священника: «Разве мало нам Нового завета?» – и тот ответил, что такой вопрос верующий человек задавать не должен, вере не нужны доказательства.
Ответ его не убедил, он не мог всё это принимать на веру, видимо, еврейская часть его вынуждала всё подвергать сомнению, и тогда он решил – исключительно с научной целью – пойти в синагогу и поговорить с талмудистами.
Такое решение он принял спонтанно, когда шел в аптеку на Маросейку за гомеопатическими каплями для ребёнка: бабушка помешалась на гомеопатии и внучке давала только микроскопические горошины от всего. Девочка была здорова. Но кто лучше бабушки знает, что давать свету очей...
Он беспрекословно попёрся в аптеку от Китай-города по Архипова и оказался у дверей синагоги.
Миша решил, что это судьба, и толкнул тяжелую дверь.
За дверью оказалось вполне мило, в зале никого не было, служба закончилась, лишь за столом, как ученики, сидели люди и изучали недельную главу Торы. Он сел тихонько за стол и стал слушать молодого раввина. То, что тот говорил, Мише было чрезвычайно интересно, и он увлекся. Он знал историю Иисуса Навина и эту сказку, как тот остановил закат солнца во время битвы, верить в это он не желал, но как художественный образ его это удивляло своей поэтичностью и страстью.
После урока Миша подошел к молодому раввину и стал спрашивать, но тот его перебил и спросил, не еврей ли он. Миша ответил, что нет. Раввин ничего не сказал, но привел в пример притчу. О том, как евреи в Испании во времена инквизиции вынуждены были под пытками принимать чужую веру и предавать завет отцов, но ночью, когда город спал, они собирались в подвалах и молились своему Богу, те, кто переходил в чужую веру, не осуждались и могли в любое время вернуться к своим без кары и раскаяния.
Он понял, что рассказал это раввин для него, ничего не возразил и вышел на улицу. На него по всей дороге в аптеку пялились люди, а он не понимал почему.
На улице было жарко, и он расстегнул рубаху, на груди его сиял нательный крест, на голове была кипа, которую он надел при входе в синагогу.
Он встал, как соляной столп, как сказано в Библии, ни гром, ни молния не поразили его, он сорвал кипу с головы, поцеловал крест, и у него второй раз в жизни заболело сердце.
Миша стал популярным телеведущим. Его стали приглашать на разные сборища с иностранцами, где он отстаивал с пеной у рта Святую Русь. Его пылу удивлялись даже святые отцы из Патриархии, и Миша услышал однажды, как один толстопузый митрополит сказал шёпотом другому: «А наш-то жидок горяч», – и ему стало дико противно, и он перестал ходить в храм, обидевшись на чиновников от Господа Бога.
Он встречался с западными интеллектуалами, вёл с ними жаркие дискуссии о мультикультурности и мировом заговоре масонов и евреев, боролся с тоталитарными сектами и мракобесием и написал книгу «Мы русские, с нами Бог».
Её все обсуждали, особенно то место, где он объяснил, что еврей может быть в десять раз круче русского в десятом колене, если его принципы тверды, как скала.
На встрече с читателями его поддел карлик из еврейского племени вопросом: «А не тяжело ли предавать отца, давшего жизнь?» Он не выдержал, сорвался на крик, карлик смеялся и обещал, что его первым сожгут на костре инквизиции хоругвеносцы, которые уже составили списки скрытых евреев.
Однажды он обедал с американским профессором-славистом, и он тоже задал ему нетрадиционный вопрос о евреях России. Профессор не хотел его оскорбить, он ничего не имел в виду, но Миша завёлся и спросил его в ответ про Америку и её евреев.
Профессор, рыжий ирландец, привёл ему одну байку, которая описывает место евреев в Америке: с ними обедают, но не ужинают. Миша всё понял, и ответные слова застряли у него во рту.
Самое сильное испытание его веры случилось в театре «Ленком», куда его привела жена на спектакль «Поминальная молитва».
Там, на сцене, между синагогой и храмом, рвал сердце маленький русский человек Евгений Леонов, который играл старого еврея в своей вечной трагедии, которую евреи любят тыкать всем в морду. Но самое главное было в том, что на сцене рвалась душа главного режиссёра, который не знал, как выбрать между мамой и папой. Она была с русского поля, а папа – с другого берега, а он не мог выбрать, с кем он, кто он и в каком храме его место.
Увиденное его потрясло. Миша видел того режиссера по телевизору, и его внешний вид не вызывал сомнения у зрителей, какого поля он ягода.
В душе всё обнажено, и всё свое смятение режиссер вложил в этот спектакль, он искал ответа на свой главный вопрос и не находил его. И тут у Миши третий раз закололо сердце, да так сильно, что он даже чуть не задохнулся от этой боли.
А осенью свет померк: умерла мама, тихо, вечером. Она уложила спать свою чудо-девочку и села смотреть телевизор, а потом вздохнула, сползла с кресла и больше не дышала. И тогда Миша замолчал.
Миша не помнил, как её хоронили, дом был полон каких-то людей, но его с ними не было.
Целый год он почти не выходил из дома, не брился и не смеялся, почти не работал, делал лишь самое необходимое, чтобы заработать на еду.
Только когда маленькая девочка заходила к нему в комнату на цыпочках и клала свои ручки на его голову, на несколько минут пожар в его голове утихал. Так продолжалось целый год. Ровно год он носил траур: «Так принято у евреев», – сказал ему коллега одобрительно, и он сразу очнулся.
Миша не ездил на кладбище – что он мог сказать камню, который стоял вместо неё среди чужих могил? – в нём оборвалась какая-то нить, удерживающая его в равновесии.
Миша чувствовал себя сиротой, он физически чувствовал себя одним на свете, и только девочка с ручками, снимающими боль, удерживала его. Он начал работать, чтобы не сойти с ума, и сделал хорошую телепередачу, имевшую бешеный успех, и получил ТЭФИ, ему стали платить приличные деньги, он отремонтировал дачу и стал там жить почти постоянно, часто один жил там неделями.
Скоро после триумфа он впервые поехал в Израиль как член жюри какого-то конкурса. Смотрел там на всё с опаской. Неприятности начались еще в аэропорту, когда службы контроля задавали ему тупые вопросы и совершенно не реагировали на его возмущения и протесты. Миша кипел и лопался от злости, а они всё спрашивали о целях его приезда и в каких он отношениях с переводчицей, сопровождавшей его. Он не понимал, что им надо, что они ищут в его компьютере и почему десять раз в разных вариантах спрашивают его, есть ли у него родственники в Израиле.
Когда в одиннадцатый раз девушка-офицер опять спросила его про родственников, он ответил с жаром и яростью, что, слава Богу, нет, и дал повод своим ответом ещё на серию вопросов, не антисемит ли он и есть ли у него друзья-арабы.
И тогда он вскипел, как тульский самовар, и понёс их по кочкам. Миша припомнил им всё, но, на счастье, девушка, знавшая русский, отошла к другому туристу, а марокканцу его переводчица переводила совсем не то, что он говорил, и странно, что через пять минут его пропустили.
Миша был в святых местах; он бродил по Иерусалиму, но ему не было места ни у Храма Гроба Господня, ни в мечети Омара, ни у Стены плача, он не чувствовал себя в этом месте своим.
Ему всё казалось, что он в Диснейленде мировых религий, где все желают только сфотографироваться на фоне святынь.
Он видел только пыльный город, и у него разрывалась голова, как у Понтия Пилата из хорошей книжки Булгакова, которую он считал переоцененной.
Миша чувствовал себя неуютно с чужими людьми, совсем не похожими на людей в Москве, которых он понимал с первого взгляда. Они могли ничего не говорить, он и без слов знал, что они сделают и что скажут в любой момент. Его не трогал берег моря, само море, и только шум базара у окон гостиницы по утрам занимал его, когда жара ещё не растапливала его мозг слепящим солнцем. В такие часы он выходил на улицу и шёл на рынок Кармель, где торговцы раскладывали товар, они были разноязыкими, разной веры и разноцветными, но, видимо, ладили и даже дружили, как члены одной корпорации.
Коты разных мастей бродили в рыбных и мясных рядах, и никто их не гнал, и они получали свою долю при разделке свежих продуктов.
Через рынок шли пьяные проститутки с соседней улицы, они закончили трудовую вахту и шли к морю смыть чужой пот и сперму, всю грязь, приставшую к ним за ночь.
Они покупали себе на завтрак овощи и горячие булки, сыр и что-то похожее на кефир, они брели на еще пустынный пляж и мылись там голышом, и рабочие из стран паранджи и бурнусов смотрели на голых тёток, пьяных и веселых, они смотрели, как они моются и как они едят свой горький хлеб.
В аэропорту, когда он уже улетал в Москву, к нему подошли два человека – мужчина сорока лет, напоминавший ему кого-то очень знакомого, и милая девушка в форме офицера полиции. Они поздоровались, и мужчина спросил на очень плохом русском, Миша ли он, и добавил при этом длинную еврейскую фамилию, вившуюся у него во рту всеми своими двенадцатью буквами. Фамилия Мише не понравилась длиной и количеством букв, а особенно буквосочетанием с окончанием на два Т.
– Нет, – ответил Миша почти вежливо и отвернулся…
Пара переглянулась, и в разговор вступила девушка-офицер, похожая на тех, кто отравлял ему жизнь в аэропорту на прилёте. Она показала ему фотографию мужика, которого он знал, он знал его всю жизнь, он выучил все его детали, он часто тайком от мамы доставал фото из железной коробки, где лежали документы, и изучал его, пытаясь понять, как этот человек оказался его отцом, как такое несчастье могло случиться… Он разглядывал фото часами, он мечтал встретить его и сказать ему все слова из своего немаленького словаря о том, что он тварь и законченный подонок. О том, что какое он имел право приблизиться к маме, как он сумел совратить её своей гитарой, своей подлой улыбкой и словами, которые должны были взорвать его и вырвать ему язык… Он знал, что должен был сказать ему, эту речь он учил все свои сорок пять лет, и он знал, что по ненависти и страсти ей место в Нюрнбергском процессе, когда-то Эренбург, писавший на процессе, написал статью «Я обвиняю».
Девушка увидела, что с ним происходит, дала ему передохнуть, а потом мягко и застенчиво стала говорить такое, что у Миши в четвертый раз кольнуло в сердце, и он почти задохнулся:
– Мы ваши родственники, ваш папа – наш отец, и он умирает, мы просим вас поехать к нему попрощаться, это его последнее желание.
Она замолчала. Миша хотел крикнуть им, что ему не нужны новые родственники и объявившийся папа, что он всегда желал ему сдохнуть в страшных судорогах, ему хватает своей семьи и чужого не надо.
Он уже открыл рот, но не сумел, откуда-то ему пришел сигнал, с какого места, он не понял, но рот его замкнуло большим замком, и он безмолвно пошел за ними к машине.
Пока они ехали в клинику, Лия (так звали девушку) рассказала, что их отец лежит с инсультом и говорить не может; она ещё рассказала Мише, что отец часто говорил своим детям о нём, он первые годы часто писал его маме, но она не отвечала, он отмечал его день рождения много лет, говорил детям, что у них в Москве живёт брат и он умный и талантливый.
Миша слушал эти слова, и они ему казались бредом, он не понимал, кто эти люди, которые называют себя его родными, он не понимал, зачем он идёт к незнакомому, чужому старику, умирающему в чужой стране, человек не может умирать два раза, он своего отца давно похоронил, и ему нечего делать в царстве мертвых, у него там уже все, кого он любил, но он ехал со страшным, губительным интересом, он в какой-то момент захотел увидеть раздавленного болезнью старика, посмотреть на причину своих страданий, потешить свою месть, увидеть возмездие человеку, кровь которого, отравленная его ядом, не давала ему жить все эти годы.
Они приехали и пошли огромной лестницей на четвертый этаж, где была реанимация, перед входом в палату он вздохнул, но вошел решительно.
На высокой кровати лежал старик, большой, крупный человек с серебряной бородой, лицо его было спокойным, глаза были прикрыты. Лия подошла к кровати и, встав на колени, поцеловала старику руку, он открыл глаза, и Миша понял, что он его видит и понимает, кто он.
От его взгляда в нём что-то вспыхнуло, забурлило, щемящая жалость пронзила его, и он заплакал, страшно, содрогаясь плечами, не стесняясь, завыл как воют евреи на молитве в особые минуты, он встал на колени рядом с Лией и поцеловал руку своему папе, которого он так ждал многие годы, которого он ненавидел и любил. Слёзы лились водопадом, все слёзы, которые он держал в себе годы, выливались из него, дамба, которую он возвёл титаническими усилиями, рухнула, и слёзы затопили всю его душу, он плакал: за маму, за себя, за этого старика, который лежит неподвижно, он плакал за всех.
В палате тоже рыдали все – его сводные брат и сестра, Дан и Лия, плакал Моше, так, оказалось, звали его отца.
А потом стало тихо, на экране прерывистая линия стала прямой, прибежали врачи и сказали, что Моше отмучился. Вскоре его увезли, и дети поехали домой, готовиться к обряду.
Когда они вышли, силы оставили Мишу, и он упал на крыльце. Начался переполох, завыла сирена, и его увезли в клинику с инсультом. Он был в коме все семь траурных дней.
И очнулся, и понял, что правая сторона его тела умерла, он всегда считал её маминой, он всегда маленький спал с ней с правой стороны, и эта сторона отказала первой, мама умерла первой, и первой разорвалась с ней нить, удерживающая его на этом свете.
После двух месяцев безнадежной борьбы врачей за мёртвую часть тела его выписали, и он оказался в доме своего отца, в его комнате с окном-дверью на крышу, где он сидел вечером и ночью.
Он почувствовал, что, когда мамина русская часть в нём умерла, ему стало спокойнее, в нём установился баланс.
Когда он полз в туалет, держась за коляску, он нёс на здоровой руке и ноге мёртвую часть своей русской души, он не чувствовал её веса, папина воля придавала ему силы.
Когда он был на двух ногах, в нём не было баланса и равновесия, а теперь, когда мама и папа на небесах, у него тлела в душе тайная надежда, что они там уже встретились и всё друг другу сказали, поплакали и помирились. Он чувствовал, что они помирились: стало вдвое легче носить своё полумёртвое тело, душа держала его равновесие, и при всём ужасе произошедшего, он был счастлив тому, что нашёл отца..
Его часто возят на кладбище, где стоит простой камень, на котором на иврите выбито имя человека, которого он знал так мало, но любил всегда.
Валерий ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
|
| |
| |
| Camel | Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:07 | Сообщение # 386 |
|
Группа: Гости
| Дина Рубина
А вот у меня знакомый есть, Петя Черноусов, человек русский, православный, выпивающий...еврейский поэт, пишущий на идиш...
Да-да, Петя с ранней юности, оказывается, попал в еврейскую историю.
Дневал и ночевал в доме своего любимого учителя, пристрастился бегать в синагогу, часами просиживал там над святыми письменами и, благодаря блестящим лингвистическим способностям, легко усвоил не только идиш, но и иврит...
Короче, русский человек оказался здесь, в Израиле, ведущим еврейским поэтом, знатоком идишисткой культуры.
Недавно получил премию Союза писателей за лучший сборник стихов на идиш. (Если б я всё это изобразила, меня в очередной раз упрекнули бы в "пережиме" ситуации.)
Кроме того, у Пети оказался хороший голос, и он с удовольствием поёт хазанут - еврейскую литургию.
Когда хорошее настроение, Петя даже выходит попеть на наш Арбат - пешеходную улицу Бен-Иегуда.
Поёт религиозные гимны в ашкеназской транскрипции, величаво кивая прохожим, бросающим в его кепку шекели...
И вот недавно стоит он на Бен-Иегуде, поёт. Подходит к нему старый человек, по виду - рав из религиозного района Меа-Шеарим.
Слушал, слушал, смахнул слезу, бросил в Петину кепку пять шекелей и говорит - на идиш, разумеется - ведь ультрарелигиозные евреи в быту не говорят на иврите, считая этот язык святым:
- Сын мой, - говорит старик, - тебе бы стоило надеть кипу.
На что ему Петя, тоже на идиш, отвечает:
- Да кипу надеть дело-то нехитрое, только это нечестно, ведь я - гой!
А старик покачал головой и говорит:
- Сын мой, ты не понял. Я сказал надеть кипу, а не снять штаны!..
Вообще, Петя - человек честный до оскомины - время от времени попадает в такие, вот, забавные ситуации, из которых выбирается, как правило, с величайшим достоинством.
Он и рассказывает о них без тени улыбки, гордясь своей уникальностью.
Иду, рассказывает, как-то вечерком, тихой улочкой в религиозном районе Геула. Вдруг из дверей маленькой синагоги выскакивает немолодой еврей, хватает меня за руку и выпаливает на идиш:
- Друг, как хорошо, что ты подвернулся! У нас не хватает человека для миньяна. (миньян, как известно - необходимое число мужчин для совместной молитвы).
Петя, как человек, повторяю, честный до отвращения, говорит ему - я, мол, вам, благородным иудеям, не гожусь, я - гой.
Диалог, напоминаю, происходит на идиш. А на каком еще языке могут говорить два прохожих в Геуле!
Тот отмахивается, досадливо, так:
- Ну так что, подумаешь! Молиться умеешь?
- Умею, конечно!
(Спрашивается: - почему "конечно!"?)
- Пошли!
И знаете, рассказывает Петя, зашли мы в эту маленькую синагогу, и так душевно помолились!
В то же время Петя настаивает на исконном своём вероисповедании, что выглядит комично, ведь он гораздо больший еврей, чем многие представители нашей московско-ленинградской интеллигентской публики.
Но очевидно, ему это необходимо для ощущения значительности и отдельности своей неповторимой личности.
Вхожу в автобус, вижу Петю, развернувшего огромную толстенную старую книгу на иврите.
Выясняется, что это талмуд с комментариями Раши.
- Вот! - говорит пьяненький Петя важно, кивая на страницу, - Это кладезь мудрости, настоящая сокровищница. Вообще, если бы я был евреем, я бы стал сатмарским хасидом. Но я - христианин... (Я при этом помалкиваю, стараясь не встревать в Петины, слишком для меня экстравагантные, рассуждения).
- Да, я христианин! - продолжает он, возбуждаясь. - Вот только во что никогда не поверю - так это в то, что Иисус Христос - сын Божий. В это ни один здравомыслящий человек никогда поверить не сможет.
Несколько секунд я оторопело вглядываюсь в его высокомерную улыбку и, наконец, кротко спрашиваю:
- А во что вы, Петя, верите?
- Как, во что! - восклицает он, - в единого всемогущего Бога!
- Тогда вы, Петя, еврей, - тихо и твёрдо говорю я тоном, каким онколог сообщает пациенту роковой диагноз.
|
| |
| |
| papyura | Дата: Среда, 26.04.2017, 02:40 | Сообщение # 387 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1551
Статус: Offline
| Страна Америка
Eli Eli lama sabachthani
Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?
(Евангелие от Матфея 27:46)
Я наслаждался. Просыпался рано, заставлял себя пару раз крутануть шеей и сползал с кровати. Потом смотрел, как пустеет парковка перед домом и разъезжаются школьные автобусы.
Взрослые и дети уезжали трудиться. Почти сразу же из-за угла появлялись люди в бейсболках наоборот и с уличными пылесосами. И наступало утро.
А потом сразу возвращались дети из школ и их родители с работы.
Немного обязательных криков и музыки – и приходила ночь.
Еще один день счастливо прожит.
Так продолжалось долго, пока мне не показалось, что пенсия, как и работа, должна иметь смысл. До этого момента мои работающие коллеги предлагали мне возить их престарелых родственников по врачам.
Или собирать апельсины у них в садах. Или помогать в уборке гаражей.
Как насчет перевозки мебели? Тебе же все равно нечего делать.
Несколько раз мне доверяли держать лестницу при обрезке ветвей.
Когда мой автоответчик начал отвечать на немецком, а я – утверждать, что нашел красоту в высшей математике, меня начали посещать на дому.
Я приготовился. На столе на видном месте лежала открытая тетрадь.
Страницы были слегка запылены, поскольку уже два месяца не переворачивались. Дифференциальные уравнения в частных производных, небрежно скопированные из старого учебника, производили сильное впечатление.
Вскоре количество звонков и предложений делать что-то полезное для общества резко упало. Я понял, что теперь пенсия обрела смысл – не делай, чего не хочешь.
Я ничего и не делал. Я наслаждался.
А потом, где-то в начале августа, раздался звонок. Бывший коллега:– Ты дома?
– Нет, если надо везти твоего дядю к окулисту.
– Его надо, но я за другим. Скоро буду.
Судя по всему, он звонил из-за двери, поскольку вошёл сразу, даже не постучавшись.
– Мне в туалет.
Выйдя минут через десять:– Что там у тебя за книги лежат? На каком это языке?
– На русском.
Он сел в кресло. Сморщился при виде страниц с уравнениями. Демонстративно не снял кроссовки. Взял с полки ближайшую книгу.
Сморщился опять, убедившись, что это не Библия.
Я понял, что разговор опять пойдёт о моём эгоизме. Не ошибся.
– У нас в воскресенье будет русский пастор. Тебе будет полезно…
– Спасибо, не надо.
– Так, что ты делаешь 8 октября?
Я понял, что это уже к чему-то.– Ничего еще.
Он немного помолчал, а потом:– Ты не мог бы сделать у нас в церкви доклад о Холокосте?
Я не был готов к этому.– Я-то чего? Я не знаю ничего такого, чего нет на интернете. Там все есть, фото, документы…
Он нетерпеливо махнул рукой:– Да знаю, но ты из той страны, где все это было, и ты можешь рассказать то, чего…
– Ты чего, я родился после войны, ничего этого не видел, живу в Америке почти 30 лет… Для лекции в церкви подбери слайды, информацию… Это кто угодно может. Я вообще не хочу на эту тему говорить. И еще в церкви. Откуда я знаю, как они…
Он встал, хлопнул меня по плечу:– Вода у тебя дома есть?
– Да, на кухне. Чистый стакан – в шкафу.Он выпил воды, зачем-то заглянул в холодильник, достаточно громко, в расчете на соседей:– Инженер, а голодаешь.И, войдя в комнату:
– Договорились. Значит, доклад где-то минут на сорок. Я тебя подвезу и обратно. Если нужна моя помощь, то мой телефон ты знаешь.
– Да кто тебе сказал, что я согласен? Да не буду я этого делать.
– Слушай, нашей конгрегации это интересно. Люди хотят послушать кого-то, кто что-то знает. Хватит заниматься ерундой, какими-то формулами. Да, и, кстати, после доклада – бесплатная еда. Домашняя. Может, хоть раз поешь нормально. Через полтора месяца, запомни.
И уже со двора крикнул:– И в туалете убери. Вообще одичал.
Я позвонил ему через две недели:– Заскочить сможешь?
– Что-то срочное? А то я еще с часик в гольф-клубе.
– Да нет. Насчет доклада. О Холокосте.
– Уже написал?– Кое-что. Но не думаю, что ты после этого захочешь со мной разговаривать.
Пауза.– Интригуешь?
– В общем, я дома.
Моя немногословность сработала. Вскоре он уже был у меня.
– Ну, что ты нашкрябал и с чего я не буду с тобой разговаривать?
– Слушай, давай я тебе кое-что процитирую, а ты мне скажешь, кто автор.Он развалился в кресле и, отхлебнув из бутылки с водой, которую достал из кармана своих шортов, кивнул мне:– Мы вас слушаем.
И я процитировал с листа: “Их жилища должны быть опустошены и разграблены. Они могут жить и в стойлах. Пусть магистраты сожгут их синагоги, а тех, кому удастся выскочить, забросать грязью. Их надо заставить работать, и, если это не получится, то нам ничего не останется, как вышвырнуть их, как собак, чтобы нас не коснулось вечное проклятие и Божий гнев на евреев и их ложь”.
И, помолчав, добавил: “Наша ошибка в том, что мы не режем их».
Мой коллега спокойно выслушал, и, пожав плечами, недоуменно произнес:– Ну, и что здесь нового? И вот из-за этого я не буду с тобой разговаривать, ты чего?
– Кто это сказал?
Он снова отхлебнул из бутылки с водой:– Да какая разница? Что ты нагнетаешь? Ну, Гитлер, или кто там еще…
– Это было написано Мартином Лютером, основателем вашей церкви, в 15-м веке.
Я не знаю, какой реакции я ожидал, но это было не оно.
Он спокойно вытер губы, поставил бутылку на край стола и, слегка снисходительно:– Это Wikileaks?–Почти. Ещё хочешь отгадать автора?
Мой коллега улыбнулся и зевнул.– Это нужно?
– Нет, просто так.
Он встал и пошел к двери.
Меня слегка перекосило:– Ты чего так резко?–
Да я припарковался на чужом месте. Показалось, что хозяин посигналил. Ну, чего ты там хотел загадывать?
Я прочитал: “Я подвергаюсь нападкам за то, как я решаю еврейский вопрос. Католическая церковь считала евреев чумой в течение 1500 лет, загоняла их в гетто, и.т.д., потому что поняла, что из себя представляют евреи. ….я воспринимаю представителей этой расы как чуму для государства и для церкви и, возможно, я оказываю христианству большую услугу, удаляя евреев из учебных заведений и лишая их возможности работать в государственных учреждениях.”
– Я чего-то не пойму. Ты зачем мне это читаешь? Если это для доклада – то всё по теме. Или ты ждешь, что я сейчас подпрыгну и начну бить кулаками по столу и кричать «Нет, нет, Далай-Лама не мог этого сказать!» Ну, Гитлер сказал. Дальше что?
– Правильно. Просто я хотел быть уверен, что члены твоей конгрегации не подымут бунт из-за…
Он хмыкнул, расстегнул верхнюю пуговицу на шортах, которая передавливала живот:– Бунт из-за Лютера? Ну, может, кому-то и не понравится. Так пусть знают. Я же потому тебя и пригласил, чтоб сказал им чего-нибудь, что не в проповеди. Читают мало, не хотят. А так – живое слово. Это всё у тебя?
У меня это было не всё. Я нашёл на интернете множество фотографий, которые были в тему. Некоторые я ему показал. Потом ещё. Он сидел у моего компьютера и щёлкал «мышкой», открывая одно фото за другим.
– Bсе, что ли, будем показывать? Много слишком. Ты что-то отобрал?
– Да вот то, что ты смотришь, я и отобрал.
Он откинулся в кресле и как-то странно взглянул на меня:– Вот это ты отобрал? А критерий какой? Тут же их почти сотня.
Я вдруг взбесился:-Тебе критерий нужен? Неужели не ясно, на каждых 60,000 убитых одно фото. Раздели шесть миллионов на сто.
Мой коллега снова отхлебнул воды, взглянул на часы:– От тебя позвонить можно, а то у моего батарейка села?
Я кивнул.
Он пару минут поговорил с женой, уточнил, какой творог купить на утро, и заверил её, что через 20 минут будет дома. И уже у машины, как бы между прочим:– А источники твоих цитат привести сможешь? Ну, тогда давай, трудись. Как закончишь, мы сделаем прогон, чтобы всё работало. Ты чего, боишься нас обидеть? Как было, так и говори. Привет жене.
Не могу сказать, что готовился тщательно. Не хотелось говорить на тему Холокоста. Ну, что я могу сказать, чего нельзя найти на интернете? Весь этот доклад – не что иное, как убивание времени для прихожан, «птичка» пастору за культпросвет и бесплатная еда для меня. После всего.
Ну, будут слушать вежливо, даже если я буду нести ересь. Скажут «Спасибо», может, даже скажут «Приходите ещё». Холокост никто еще не смог обьяснить. Так чего же я лезу в это? И пригласили меня только потому, что я «русский» и, может, чего сенсационное скажу. А я надёргал общеизвестных фактов из интернета и поэтому я докладчик?
Недели за три до срока я позвонил своему коллеге.
– Ну, готов?
– Слушай, надо встретиться.
– Конечно, надо прогнать вчерновую. У тебя или у меня?
– У меня.– Завтра в 11 устроит?
– Давай.
Он принес свою Toshiba и флешку скопировать слайды. Моя оживлённость его настoрожила:– Только не надо меня удивлять. Не говори, что ты передумал.
Мне стало легче. Ключевые слова были произнесены. Не мной.
– Слушай, ну ни к чему это. Никому это уже давно не нужно. Давай я лучше расскажу, что такое жить в коммуналке с восемью соседями и одним унитазом.
– Я не против. Но потом. Если захочешь. И eсли кто-то останется после твоего главного доклада. И не надо решать за меня и нашу конгрегацию. Ты их не знаешь. И я же не говорю, что они не спят и ждут. В общем, я считаю, что будет интересно.
Я перебил:– Интересно смотреть, как рожает мышь. Мы говорим о Холокосте. Что там интересного?
И тут он меня удивил:– Холокост – это же интересно. Да, интересно. Это тебе не какое-то там отрезание головы на камеру. Или сжигание живьем десяти человек. И тоже на камеру. Для устрашения.
Неужели не сечешь? Tо делают фанатики, обкуренные бандюки.
А Холокост, ну так, как я, сын лавочника из Огайо, понимаю – это целая область человеческого знания. Теория, подготовка, практика. И делалось не какими-то мясниками, а философами, врачами, писателями. Я тебе так скажу: квантовая теория – это для пары сотен мозгляков. А вот заделать Холокост, да ещё так здорово – это таки наука.
Словом, я считал тебя умнее. Ну, не хочешь – твое дело.
– Ладно, слайды будешь смотреть? Или на слово веришь?
– Тебе? На слово?
Доклад был намечен на восемь вечера, сразу после вечерней проповеди. Боб заехал за мной и по дороге еще раз напомнил, что возраст прихожан от 18 и «до конца.» И что будет человек 40. А может, и больше. Он будет сидеть за своей Тоshiba и ждать от меня знака, когда показывать очередной слайд. Слайды будут проэцироваться на большой экран слева от меня. Моя задача – говорить. Всё остальное Боб брал на себя. В моем распоряжении – кафедра проповедника, большая белая доска с фломастерами, бутылка воды «Perrie» и коробка с салфетками, если вдруг начну плакать. Поскольку доклад рассчитан на 40 минут, многие прихожане будут часто ходить в туалет. Я не должен воспринимать это как неуважение к себе. Если они возвращаются. Я волнуюсь? Я не волновался.
Приехали мы минут за 15 до начала. Я вздохнул с облегчением, когда узнал, что всё будет происходить не в главном зале, с галёркой, как в театре, и с большой сценой, в глубине которой возвышался огромный крест.
Боб привёл меня в средних размеров помещение со всей атрибутикой, о которой он упоминал. Он начал готовить свой компьютер, а я вышел во внутренний дворик. Это было восьмое октября после восьми вечера, и было почти темно. Во дворике росли какие-то большие кусты, стояло несколько столиков с садовыми креслами, было тихо и хорошо.
И мне вдруг так не захотелось нарушать эту гармонию.
– Ну, ты где? Уже собрались.
Как Боб и предсказывал, в зале находилось человек 40-50. Я стал за кафедру пастора, увидел лёгкие улыбки и понял, что лучше стоять рядом с ней. Пастор был явно высокого роста.
Я представился, написал своё имя на доске и начал с того, что у меня две просьбы к аудитории. Во-первых, как можно чaще перебивать, задавать вопросы по ходу. Любые. Во-вторых, представляться, чтобы я, отвечая, мог обратится по имени, а не вообще.
И, прежде чем перейти к теме, я подчеркнул, что это не результат моих исследований, а просто компиляция фактов. Никаких сенсационных выводов я делать не собирался.
Сам доклад я начал оригинально:
– Какие вопросы?
Мужчина лет 45, в тренировочных штанах «Nike» и в футболке с надписью «No, I don’t”, поднял руку, как в школе.
-Меня зовут Рэндел. Вы лично видели что-либо, относящееся к Холокосту?
 Бабий Яр. расстрелянные Бабий Яр. расстрелянные
Мне не пришлось ворошить память, поскольку я вспоминал этот эпизод, когда готовился к докладу:
-Я видел памятники. Немного. И был еще один эпизод, о котором могу упомянуть.
И я рассказал, что, когда мне было 11 лет, моя бабушка в Киеве, так, мимоходом, проходя со мной по одной из улиц, сказала, что здесь собирали всех евреев перед вывозом в Бабий Яр.
В 11 лет эти слова – «Бабий Яр» – как-то не произвели на меня впечатления.
Поскольку Рэндел никак не отреагировал на «Бабий Яр» который по-английски звучит дословно как « Old Woman’ Ravine «, я перевёл взгляд на аудиторию и понял, что есть с чего начать доклад.
Я взглянул на Боба, он щёлкнул «мышкой» и на экране появилось фото уходящего в горизонт рва, заваленного трупами. Фото было резким, и можно было даже рассмотреть выражения некоторых лиц. А вот к следующему вопросу я был не готов:
– Так там вон и дети вроде. И женщин много. Это что, военнопленные? А, извините, я – Вернон.
– Нет, Вернон. Они не военнопленные. Они евреи.
Лицо Вернона сначала выразило недоумение. Это почти мгновенно перешло в понимание:
 Львовский погром. Львовский погром.
– А-а…1941 год
– И сколько там трупов?
Я назвал цифру и опять удивился довольно спокойной реакции аудитории.
– Мерилин меня зовут. Ну, я, конечно, понимаю, что это ужасно. Но это все вроде могильника, туда свозили трупы. Война – это так ужасно.
Тут я начал понимать, что есть вещи, которые мозг отказывается понимать. Защищается.
– Нет, Мэрилин, туда не свозили. Их ставили по десять человек на край рва и расстреливали. Ночью отдыхали. А с утра снова за работу. Ну, евреев-то много было в Киеве. Вначале.
По аудитории прошелестели какие-то комментариии, которых я не понял.
Затем мужчина лет семидесяти, с лёгким раздражением:
– Моё имя Джеймс. Я что-то не совсем понимаю, о чём вы говорите. Эти ваши евреи, они что, не понимали, что их убьют? И как овцы шли на заклание? Они же вроде умные люди. Как же можно было не понимать, что ведут на смерть? И не пытаться вырваться, перебить охрану? Вы же утверждаете, что там несколькo десятков тысяч лежит.. Это что, нужна дивизия, что бы их охранять и расстреливать? По-моему, вы не всё нам говорите. Может, это нельзя говорить. Могу понять. Но… извините… в голове это не укладывается.
Он ждал ответа. Не мог же я ему сказать, что ни в чьей голове это не укладывается. И не хотел, чтобы он считал людей бессловесными овцами. Много у меня за эти несколько секунд мелькнуло в голове. К счастью, я этого не сказал.
Я бросил взгляд на Боба за компьютером. Он понял.
Сложно это обьяснить, но все слайды как бы соответствовали задаваемым вопросам. Пока. Следующие несколько слайдов показывали, что возмущённые граждане Львова делали с евреями своего города в течение нескольких дней. Слайды были очень графические. Никакой ретуши. Низколобые, перекошенные в абсолютной злобе морды, слюнявые ухмыляющиеся рты, валяющиеся на брусчатой мостовой молодые женщины в разорванном белье, без него, в окружении гогочущих подростков, хихикающих баб, каких-то вурдалаков. Мне не хотелось смотреть на аудиторию. Краем глаза я увидел, что Джеймс медленно садился с полуоткрытым ртом, а несколько женщин, сидевших рядом с ним, прикрыли рты. И сразу двумя руками. Тут я увидел, что Боб делает какой-то знак рукой. Я посмотрел в ту сторону и увидел, что старик, сидящий у двери, закрыл глаза рукой и склонил голову на плечо.
– Боб, свет!
Свет залил помещение. Стало тихо. Слайд на экране потерял резкость
– Извините, сэр, вы в порядке? Сэр?
Старика кто-то осторожно тронул за плечо. Он вздрогнул, забрал руку от глаз, увидел всеобщее внимание:
– Извините. Вспомнилось. Всё в порядке.
Своего имени он не назвал. Потом я ещё несколько раз бросал на него взгляд, но его реакция больше ни разу не отличалась от реакции основной аудитории.
– Кэвин. Скажите, эти страшные кадры когда сняты и где?
Я сказал.
– Так я не пойму, это что, наци в гражданском? Как наши скинхеды?
– Кэвин, это соседи сводят счеты с соседями. Те, которых увечат – это евреи, а ост…
– Я понял, что бьют евреев. Не понял, кто их бьет.
– Их бьют их соседи, граждане той же страны, жители того же города.
– Подождите, но это же война, вы же сказали, что немцы оккупировали город. Почему же это не немцы делают?
– Зачем? А соседи для чего? Немцы понятия не имели, кто еврей, а кто нет.
– То есть, вы хотите сказать, что… O, извините, зовут меня Дорис…
– Да, Дорис, это и хочу сказать. Местные составляли списки с адресами и фамилиями. А потом местные, соседи, ходили по этим адресам и…–
Извините, Мэрилин…– Да, я помню вас, Мэрилин, что вы хотели сказать?
– Так это же просто настоящий, как это называется, э…э.. «прод… гор…».
– Это называется погром. Вы правы.
– Ну не все же в этом, как вы сказали, во Львове, были такими. То, что вы нам показываете, это люмпены, это есть везде. White trash.
– Вы правы, Джеймс, не все были такими. Не все были люмпенами. Среди погромщиков было много студентов.
Наступило молчание. Я молчал. Боб отстраненно смотрел в потолок. Я сделал ему знак – и новый слайд появился на экране. Цитата Мартина Лютера из книги «О евреях и их лжи.» Я прочитал её вслух. По глазам сидевших в первом ряду я видел, что они читают, шевеля губами, ещё раз. Сначала один, второй, а потом почти каждый из тех, кого я мог увидеть, устремились в свои айфоны. Я понимал, что они ищут, и я не торопил. Слайд все ещё стоял на экране. Тут я увидел в дверях группу людей, которые, видимо, стояли там какое-то время. Они смотрели на экран.
Не ожидая моего знака, Боб сменил слайд. И появился другой, с цитатой Гитлера. Люди от двери начали выстраиваться вдоль стены потому, что подходили ещё.
Честно говоря, я не знал, что ещё говорить.
Меня спас вопрос.– Меня зовут Дуэйн. А как Рузвельт реагировал на это все? Интересно, как мы, Америка, реагировали?
 Еврейские беженцы на корабле «Сент-Луис» Еврейские беженцы на корабле «Сент-Луис»
Аудитория несколько оживилась, поскольку Америка не могла не среагировать.
Я взял один из маркеров и на доске написал: «St. Louis.»
– Кто знает, что это?
Улыбки, расслабление, шарканье ногами.
Несколько голосов сразу:– Ну, всегда была столица Миссури.
– И что, так в кавычках всегда и пишется?
Рэндел, неуверенно:– Ну, вы так написали…
– А вы слыхали про старую развалюху-пароход, на котором почти 1000 беженцев-евреев из Европы пытались спастись на американском континенте? Тут ключевое слово «пытались.»
И я рассказал, вкратце, потому что доклад уже шёл больше полутора часов, о пароходе «St. Louis.» О том, как капитан корабля, немец, чье имя Густав Шрёдер, предупредил свой экипаж, полностью немецкий, чтобы к еврейским пассажирам относились как к пассажирам 1-го класса. О том, как ему не позволяли войти на внутренний рейд Гаваны в течение недели. Как потом он плыл на север. Как по одобренному Рузвельтом приказу Береговая охрана США не пустила этот пароход ни в один североамериканский порт. Как капитан хотел посадить пароход на мель возле берегов Америки, чтобы дать возможность пассажирам добраться до берега. Береговая охрана США не позволила. И пароход вернулся в Европу. С теми, с кем оттуда и выехал. А через полтора месяца началась Вторая мировая война.
– FDR сделал это? Почему?
– Потому, Кэвин, что не хотел прогневить Гитлера. Но я не родился в этой стране. Может, есть другое объяснение?
Я видел, как несколько человек что-то печатали на своих айфонах.
На экране появился новый слайд. Карта расположения всех концлагерей. А потом ещё один, суммирующий, который в виде таблицы показал еврейское население в каждой европейской стране до и после войны. А пoтом, при полной тишине в аудитории, я подошел к белой доске и написал на ней: “Lama.”
И спросил, кто знает, что это означает.
И сам ответил: “Lama” по-древнееврейски означает “За что?” Это было последнее, что сказал Иисус Христос перед смертью.
Аудитория молчала. А потом люди начали аплодировать. Они поднимались и продолжали аплодировать стоя. Я не мог уйти, все стояли вокруг меня. Мне пожимали руки, что-то говорили, потом снова пожимали руки. Я, уже в дверях, машинально посмотрел на большой экран. Длинный ров уходил в горизонт. Он был заполнен трупами. Фото было резким, и можно было даже рассмотреть выражения некоторых лиц. А внизу кто-то прилепил скотчем лист, на котором чёрным фломастером наискосок и небрежно было написано «Lama?»
Alveg Spaug ©2016
|
| |
| |
| BROVMAN | Дата: Среда, 26.04.2017, 23:16 | Сообщение # 388 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 447
Статус: Offline
| сильно написано.
а как просто начинается история и потом вдруг всё переворачивается...
спасибо автору и вам, papyura, за интересный и оригинально написанный материал!
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Пятница, 05.05.2017, 13:34 | Сообщение # 389 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1453
Статус: Offline
| Ключик от детства
В Уставе чёрным по белому сказано: рано или поздно любой мастер получает Заказ. Настал этот день и для меня.
Заказчику было лет шесть. Он сидел, положив подбородок на прилавок, и наблюдал, как «Венксинг» копирует ключ от гаража. Мама Заказчика в сторонке щебетала по сотовому.
— А вы любой ключик можете сделать? — спросил Заказчик, разглядывая стойку с болванками.
— Любой, — подтвердил я.
— И такой, чтобы попасть в детство?
Руки мои дрогнули, и «Венксинг» умолк.
— Зачем тебе такой ключ? — спросил я. — Разве ты и так не ребёнок?
А сам принялся лихорадочно припоминать, есть ли в Уставе ограничения на возраст Заказчика. В голову приходил только маленький Вольфганг Амадей и ключ к музыке, сделанный зальцбургским мастером Крейцером. Но тот ключ заказывал отец Вольфганга…
— Это для бабы Кати, — сказал мальчик. — Она всё вспоминает, как была маленькая. Даже плачет иногда. Вот если бы она могла снова туда попасть!
— Понятно, — сказал я. — Что же, такой ключ сделать можно, — я молил Бога об одном: чтобы мама Заказчика продолжала болтать по телефону. — Если хочешь, могу попробовать. То есть, если хотите… сударь.
Вот ёлки-палки. Устав предписывает обращаться к Заказчику с величайшим почтением, но как почтительно обратиться к ребенку? «Отрок»? «Юноша»? «Ваше благородие»?
— Меня Дима зовут, — уточнил Заказчик. — Хочу. А что для этого нужно?
— Нужен бабушкин портрет. Например, фотография. Сможешь принести? Завтра?
— А мы завтра сюда не придём.
Я совсем упустил из виду, что в таком нежном возрасте Заказчик не пользуется свободой передвижений.
— Долго ещё? — Мама мальчика отключила сотовый и подошла к прилавку.
— Знаете, девушка, — понес я ахинею, от которой у любого слесаря завяли бы уши, — у меня для вашего ключа только китайские болванки, завтра подвезут немецкие, они лучше. Может, зайдете завтра? Я вам скидку сделаю, пятьдесят процентов!
Я отдал бы годовую выручку, лишь бы она согласилась.
Наш инструктор по высшему скобяному делу Куваев начинал уроки так: «Клепать ключи может каждый болван. А Заказ требует телесной и моральной подготовки».
Придя домой, я стал готовиться.
Во-первых, вынес упаковку пива на лестничную клетку, с глаз долой. Употреблять спиртные напитки во время работы над Заказом строжайше запрещено с момента его получения.
Во-вторых, я побрился. И, наконец, мысленно повторил матчасть, хоть это и бесполезно. Техника изготовления Заказа проста как пробка. Основные трудности, по словам стариков, поджидают на практике. Толковее старики объяснить не могут, разводят руками: сами, мол, увидите.
По большому счёту, это справедливо. Если бы высшее скобяное дело легко объяснялось, им бы полстраны занялось, и жили бы мы все припеваючи. Ведь Пенсия скобяных дел мастера — это мечта, а не Пенсия. Всего в жизни выполняешь три Заказа (в какой момент они на тебя свалятся, это уж как повезёт). Получаешь за них Оплату. Меняешь её на Пенсию и живёшь безбедно. То есть, действительно безбедно. Пенсия обеспечивает железное здоровье и мирное, благополучное житьё-бытьё. Без яхт и казино, конечно, — излишествовать запрещено Уставом. Но вот, например, у Льва Сергеича в дачном посёлке пожар был, всё сгорело, а его дом уцелел. Чем такой расклад хуже миллионов?
Можно Пенсию и не брать, а взамен оставить себе Оплату. Такое тоже бывает. Всё зависит от Оплаты. Насчёт неё правило одно — Заказчик платит, чем хочет.
Как уж так получается, не знаю, но соответствует такая оплата… в общем, соответствует. Куваев одному писателю сделал ключ от «кладовой сюжетов» (Бог его знает, что это такое, но так это писатель называл). Тот ему в качестве Оплаты подписал книгу: «Б. Куваеву — всех благ». Так Куваев с тех пор и зажил. И здоровье есть, и бабки, даже Пенсия не нужна.
Но моральная подготовка в таких условиях осуществляется со скрипом, ибо неизвестно, к чему, собственно, готовиться. Запугав себя провалом Заказа и санкциями в случае нарушения Устава, я лёг спать. Засыпая, волновался: придёт ли завтра Дима?
Дима пришёл. Довольный. С порога замахал листом бумаги.
— Вот!
Это был рисунок цветными карандашами. Сперва я не понял, что на нём изображено. Судя по всему, человек. Круглая голова, синие точки-глаза, рот закорючкой. Балахон, закрашенный разными цветами. Гигантские, как у клоуна, чёрные ботинки. На растопыренных пальцах-чёрточках висел не то портфель, не то большая сумка.
— Это она, — пояснил Дима. — Баба Катя. — И добавил виновато: — Фотографию мне не разрешили взять.
— Вы его прямо околдовали, — заметила Димина мама. — Пришел вчера домой, сразу за карандаши: «Это для дяди из ключиковой палатки».
— Э-э… благодарю вас, сударь, — сказал я Заказчику. — Приходите теперь через две недели, посмотрим, что получится.
На что Дима ободряюще подмигнул.
«Ох, и лопухнусь я с этим Заказом», — тоскливо думал я. Ну да ладно, работали же как-то люди до изобретения фотоаппарата. Вот и мы будем считывать биографию бабы Кати с этого так называемого портрета, да простит меня Заказчик за непочтение.
Может, что-нибудь все-таки считается? неохота первый Заказ запороть…
Для считывания принято использовать «чужой», не слесарный, инструментарий, причём обязательно списанный. Чтобы для своего дела был не годен, для нашего же — в самый раз. В своё время я нашёл на свалке допотопную пишущую машинку, переконструировал для считывания, но ещё ни разу не использовал.
Я медленно провернул Димин рисунок через вал машинки. Вытер пот. Вставил чистый лист бумаги. И чуть не упал, когда машинка вздрогнула и клавиши бодро заприседали сами по себе: «Быстрова Екатерина Сергеевна, род. 7 марта 1938 года в пос. Болшево Московской области…»
Бумага прокручивалась быстро, я еле успевал вставлять листы. Где училась, за кого вышла замуж, что ест на завтрак… Видно, сударь мой Дима, его благородие, бабку свою (точнее, прабабку, судя по году рождения) с натуры рисовал, может, даже позировать заставил. А живые глаза в сто раз круче объектива; материал получается высшего класса, наплевать, что голова на рисунке — как пивной котёл!
Через час я сидел в электричке до Болшево. Через три — разговаривал с тамошними стариками. Обдирал кору с вековых деревьев. С усердием криминалиста скрёб скальпелем всё, что могло остаться в посёлке с тридцать восьмого года — шоссе, камни, дома.
Потом вернулся в Москву. Носился по распечатанным машинкой адресам. Разглядывал в музеях конфетные обёртки конца тридцатых. И уже собирался возвращаться в мастерскую, когда в одном из музеев наткнулся на шаблонную военную экспозицию с похоронками и помятыми котелками. Наткнулся — и обмер.
Как бы Димина бабушка ни тосковала по детству, вряд ли её тянет в сорок первый. Голод, бомбёжки, немцы подступают… Вот тебе и практика, ёжкин кот. Ещё немного, и запорол бы я Заказ!
И снова электричка и беготня по городу, на этот раз с экскурсоводом:
— Девушка, покажите, пожалуйста, здания, построенные в сорок пятом году…
На этот раз Заказчик пришёл с бабушкой. Я её узнал по хозяйственной сумке.
— Баб, вот этот дядя!
Старушка поглядывала на меня настороженно. Ничего, я бы так же глядел, если бы моему правнуку забивал на рынке стрелки незнакомый слесарь.
— Вот Ваш ключ, сударь.
Я положил Заказ на прилавок. Длинный, с волнистой бородкой, тронутой медной зеленью. Новый и старый одновременно. Сплавленный из металла, памяти и пыли вперемешку с искрошенным в муку Диминым рисунком. Выточенный на новеньком «Венксинге» под песни сорок пятого.
— Баб, смотри! Это ключик от детства. Правда!
Старушка надела очки и склонилась над прилавком.
Она так долго не разгибалась, что я за неё испугался. Потом подняла на меня растерянные глаза, синие, точь-в-точь как на Димином рисунке. Их я испугался ещё больше.
— Вы знаете, от чего этот ключ? — сказала она тихо. — От нашей коммуналки на улице Горького. Вот зазубрина — мы с братом клад искали, ковыряли ключом штукатурку. И пятнышко то же…
— Это не тот ключ, — сказал я. — Это… ну, вроде копии. Вам нужно только хорошенько представить себе ту дверь, вставить ключ и повернуть.
— И я попаду туда? В детство?
Я кивнул.
— Вы хотите сказать, там все ещё живы?
На меня навалилась такая тяжесть, что я налёг локтями на прилавок. Как будто мне на спину взгромоздили бабы-катину жизнь, и не постепенно, год за годом, а сразу, одной здоровой чушкой. А женщина спрашивала доверчиво:
— Как же я этих оставлю? Дочку, внучек, Диму?
— Баб, а ты ненадолго! — закричал неунывающий Дима. — Поиграешь немножко — и домой.
По Уставу, я должен был её «проконсультировать по любым вопросам, связанным с Заказом». Но как по таким вопросам… консультировать?
— Екатерина Сергеевна, — произнёс я беспомощно, — Вы не обязаны сейчас же использовать ключ. Можете вообще его не использовать, можете — потом. Когда захотите.
Она задумалась.
— Например, в тот день, когда я не вспомню, как зовут Диму?
— Например, тогда, — еле выговорил я.
— Вот спасибо Вам, — сказала Екатерина Сергеевна. И тяжесть свалилась с меня, испарилась. Вместо неё возникло приятное, острое, как шабер, предвкушение чуда. Заказ выполнен, пришло время Оплаты.
— Спасибо скажите Диме, — сказал я. — А мне полагается плата за работу. Чем платить будете, сударь?
— А чем надо? — спросил Дима.
— Чем изволите, — ответил я по Уставу.
— Тогда щас, — и Дима полез в бабушкину сумку. Оттуда он извлёк упаковку мыла на три куска, отодрал один и, сияя, протянул мне. — Теперь вы можете помыть руки! Они у вас совсем чёрные!
— Дима, что ты! — вмешалась Екатерина Сергеевна, — Надо человека по-хорошему отблагодарить, а ты…
— Годится, — прервал я её. — Благодарю Вас, сударь.
Они ушли домой, Дима — держась за бабушкину сумку, Екатерина Сергеевна — нащупывая шершавый ключик в кармане пальто.
А я держал на ладони кусок мыла. Что оно смоет с меня? Грязь? Болезни? Может быть, грехи?
Узнаю сегодня вечером.
Автор Калинчук Елена
|
| |
| |
| Миледи | Дата: Среда, 10.05.2017, 07:18 | Сообщение # 390 |
|
Группа: Гости
| «Десятиминутная драма»
Трамвай № 4, с двумя жёлтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком.
Дама контрабандой везла в корзинке щенка.
Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге.
Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моём рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.
Действие открылось возгласом кондуктора:
— Благовещенская площадь, — по-новому площадь Труда!
Этот возглас был прологом к драме, в нём уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны — труд, с другой стороны — нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося деве Марии.
Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошёл очаровательный молодой человек с нумером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гриперлевые брюки и поправил на носу очки.
Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши.
В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие — на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории.
Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор всё ещё задерживал на остановке вагон и не давал звонка.
Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.
И наконец он появился.
Он вошёл, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, не ощутимое землетрясение колыхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...
— Тютька, тютька... Тютёчек ты мой!
Он нагнулся — погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его, и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.
—Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? — сказал он. — Им-мею полное право, да! Потому — вот они мозоли, вот, глядите!
Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный человек.
Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа — белые, красивые — от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки.
Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком — и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались всё шире, шире — и наконец в полном восторге, он воскликнул:
— О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну, и хорош! Милый ты мой!
Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.
Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нём совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило — и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.
— А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! — вдруг сказал он, вставая. — Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шущест-вую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!
Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному — нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.
Мастеровой подошёл к молодому человеку, вынул руку из кармана...
Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза — чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:
— Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!
— Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! — угрожающе буркнул мастеровой.
Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.
— Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! — пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.
— Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я ещё не слезу! Я останусь!
Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдёт, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.
Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на гриперлевых брюках.
— Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! — сказал мастеровой.
Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряжённое в очки лицо, глаза его под стеклами замигали. Трамвай всё ещё стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над «членом капитала».
— Ну, — сказал он, — я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. А на прощанье — я тебя сейчас...
Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.
— Стой! Не смей! — крикнул мастеровой. — Дай кончить! Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, — и закончил фразу:
— На прощанье... Красавчик ты мой — дай я тебя поцелую!
Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы — и вышел.
Секундная пауза — потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам всё дальше — сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей Невы.
Евгений Замятин, 1929
|
| |
| |
|










