| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
линия жизни...
| |
| papyura | Дата: Понедельник, 26.09.2022, 07:32 | Сообщение # 496 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1561
Статус: Offline
| замечательный актёр был и - как оказалось - ЕЩЁ БОЛЕЕ замечательный Человек !
|
| |
| |
| несогласный | Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:27 | Сообщение # 497 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| как думают обычные умные люди... или парочка строк об умении планировать на ближайшие столетия
1913 год, Англия, Лондон, Вестминстерский дворец, самое знаменитое и старое здание парламента в мире.

Заседание комиссии по реставрации холла выявило большую проблему: требуется капитальный ремонт, ведь здание начали строить в 11 веке, закончили только к 14-му...
И главное: нужно было заменить гигантские дубовые стропила.
Дубрав в Англии осталось мало, старых - ещё меньше, а тут нужны дубы старше 300 лет - потому что всё, что моложе, не подходило по размеру... И стала комиссия искать, нет ли документов, откуда дерево для стропил брали в прошлый раз, в 14 веке.
Отыскали в Парламенте пергамент со списком поставщиков, там их учёт ведется примерно с 11 века.
Раскрывают ломкий пергамент из кожи телёнка. Побуревшие чернила. Старинная орфография. Читают и... обнаруживают, что дуб для стропил брали из владений семейства Courthope из Сассекса. Более того, выясняется, что поместьем все эти века владела одна и та же семья.
Связываются. И глава семьи, сэр Джордж Кортоп, отвечает: да, этого запроса мы ожидали. Дубы в порядке. Можете забирать.
Немая сцена.. Дело в том, что когда прапрапрапрапра... сэра Джорджа поставлял балки для строительства Парламента, он тотчас смекнул, что когда-нибудь новое дерево понадобится для ремонта, поэтому ТУТ ЖЕ и приказал высадить саженцы новой дубравы. Их высадили, пометили и об этом в семейном архиве записали: дубрава для ремонта Вестминстерского дворца, да так и передавали документ наследникам.. 560 лет.
И удивившись возрадовалась комиссия в Вестминстере.
И срубили дубы, и сделали балки, и отремонтировали великолепный Вестминстер-холл.
А сэр Джордж, возблагодаривший предусмотрительного предка за огромную сумму, неожиданно полученную за дубы, тут же посадил новую дубраву, с расчетом на следующий ремонт и благодарность далёкого потомка.
Сообщение отредактировал несогласный - Суббота, 22.10.2022, 16:30 |
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Вторник, 08.11.2022, 17:02 | Сообщение # 498 |
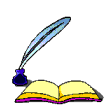 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 324
Статус: Offline
|
...Можно сказать, что Василий Семёнович Гроссман происходил из аристократической еврейской семьи.
Это не шолом-алейхемская беднота, эти евреи учились и живали в Европе, отдыхали в Венеции, Ницце и Швейцарии, жили в особняках, носили бриллианты, говорили по-французски и по-английски, а не только на идиш.
Родители Гроссмана познакомились в Италии. Его бедовый отец, Соломон Иосифович (Семён Осипович), увёл мать (Екатерину Савельевну Витис) от мужа.
Старший Гроссман учился в Бернском университете, стал инженером-химиком, а происходил он из богатого бессарабского купеческого рода.
Екатерина Савельевна была отпрыском такого же богатого одесского семейства, училась во Франции, преподавала французский язык.
Словом, жили они как «белые люди», да простят мне негры этот советский фольклор...
Жили они в Бердичеве, исповедовали гуманизм и атеизм пополам со скептицизмом, и 12 декабря 1905 года у них родился сын Иосиф. Иося быстро превратился в Васю, так няне было проще. И рос он в родителей — космополитом.
Двенадцать лет счастливой жизни: ёлки, игрушки, сласти, кружевные воротнички, гувернантка, бархатные костюмчики. Полицмейстер приходил поздравлять с Пасхой и Рождеством, получал «синенькую» (пять рублей) и бутылку коньяка и благодарил барина и барыню.
Мальчик никогда не слышал слово «жид». Погромов в Бердичеве вовсе не было, слишком велико было еврейское население (полгорода), погромщиков самих бы разгромили к чёрту...
А потом «сон золотой» кончился: сначала родители разошлись, но это ещё не беда. Вася с матерью жили у богатого дяди, доктора Шеренциса, построившего в Бердичеве мельницу и водокачку.
Но пришел 1917-й, богатые стали бедными, а бедные не разбогатели. Гимназия превратилась в школу, которую Вася закончил в 1922 году. И по семейной традиции поехал учиться на химика в Москву, в МГУ на химический факультет.
В 1929 году он его закончил и вернулся в Донбасс, где проходил практику.
Работал на шахте инженером-химиком, преподавал химию в донецких вузах.
Был писаный красавец: высокий, голубоглазый, чернокудрый, с усами, да ещё и европеец: мама возила его во Францию, два года он учился в швейцарском лицее. И, конечно, с такими данными он подцепил в Киеве красивую Аню, Анну Петровну Мацук, свою первую жену, которая родила ему дочь Катю (названную в честь матери).
Но в шахте Василий Семёнович подхватил туберкулез. Надо было уезжать. И в 1933-м он едет в Москву (туда стремились из провинции не только сёстры, но и братья), а с женой они в том же году разводятся.
Свободен и невидим!
В это время Гроссман ещё наивный марксист-меньшевик в бухаринском стиле. Верит в Ленина и социализм. Во-первых, молодой и зелёный, а во-вторых, наследственность: Семён Осипович, папа, согрешил с марксизмом — на свои деньги организовывал по стране марксистские кружки (на свою, естественно, голову).
Его кочевая жизнь (ещё ведь и по шахтам ездил, новаторские методы внедрял) и развела его с женой. Но любил он её до самой смерти, и переписывались они, как нежные любовники.
Так что Василий сначала шёл налево вместе с веком (уже потом пошёл направо, против течения).
В 1934 году он покорил Горького (да зачтётся и это старому экстремисту) производственной повестью «Глюкауф» из жизни инженеров и шахтёров и рассказом «В городе Бердичеве» о Гражданской войне. Это ещё, конечно, пустая порода, но крупицы золота там поблескивают и Горький, опытный старатель, велел ему промывать золотишко.
Три года подряд, с 1935-го по 1937-й, он издаёт рассказы: о бедных евреях, о беременных комиссаршах (почти весь будущий фильм «Комиссар»).
Да ещё в 1937–1940 годах выходит эпос историко-революционный — «Степан Кольчугин», о революционных (даже слишком) демократах 1905–1917 годов, когда ещё можно было веровать в добродетель и «светлое царство социализма», как писал самый старший Гайдар. Ну что ж, это был успех: три сборника, эпос, поездки к Горькому на дачу, а в 1937 году его приняли в Союз писателей.
Булгаков Гроссману завидовал, говорил: неужели можно напечатать что-то порядочное? И даже сталинская борона (хотя Сталин его и не любил и регулярно из премиальных списков вычеркивал) Гроссмана не зацепила.
Ведь ему помогало литобъединение «Перевал»: Иван Катаев, Борис Губер, Николай Зарудин. В 1937 году «перевальцев» уничтожили почти всех, даже фотокарточек не осталось. А его пронесло.
А ведь незадолго до этого наш красавец и баловень судьбы (как тогда казалось многим) влюбился в жену своего друга Бориса Губера и увёл её из семьи, от мужа и двух мальчиков, Феди и Миши. А тут аресты, Апокалипсис, Ольгу берут вслед за Борисом как ЧСИР.
И здесь Василий Семёнович идёт на грозу. Забирает к себе Федю и Мишу, едет в НКВД и
начинает доказывать, что Ольга уже год как его жена, а вовсе не Бориса.
Он отбивал её год, и случилось чудо: Ольгу ему отдали — тощую, грязную и голодную. Он её отмыл, откормил и женился на ней. Ольга стала его второй женой. Ольга Михайловна Губер. Федя и Миша стали его детьми. Он сходил за женой в ад, как Орфей, и вернулся живым.
Отчаянная смелость и благородство Серебряного века.
А снаряды ложились все ближе: в 1934 году арестовали и выслали его кузину Надю Алмаз, в квартире которой он жил. В 1937 году расстреляли не только «перевальцев»: был расстрелян дядя, доктор Шеренцис.
Гроссман не унижался, не подписывал подлые письма, не лизал сталинские сапоги. Его явно хранило Провидение. Он не должен был погибнуть раньше, чем выполнит свою миссию. У него не было дублёра, его симфонию не мог бы сыграть даже солженицынский оркестр.
На остатках советского энтузиазма и на врождённом благородстве (не бросать в беде) нестроевой, глубоко штатский, забракованный всеми комиссиями Гроссман пробивается в военные корреспонденты газеты «Красная звезда». И оказывается блестящим военным журналистом.
Его репортажи бойцы учили наизусть, их вывешивали в Ставке: когда ожидались наступление или какая-нибудь замысловатая операция, Ставка заказывала в «Красной звезде» Гроссмана. Он писал не по «материалам», он лез в самое пекло, его репортажи пахли порохом, кровью и смертью.
Он был словно заговорён: под ноги ему бросили гранату, и она не разорвалась; он один спасся из утопленного снарядами в Волге транспорта; за всю войну он ни разу не был ранен.
Его статьи заставляли союзников плакать хорошими слезами и испытывать тёплые чувства к Красной Армии. Он был личным врагом фашизма, его кровником, он объявил Третьему рейху вендетту. На то была особая причина: 15 сентября 1941 года в Бердичеве в гетто вместе с другими евреями была расстреляна Екатерина Савельевна Витис, его кроткая, образованная, тяжело больная костным туберкулезом мать. Так она и пошла к могильному братскому рву на костылях.
Атеист и вольнодумец Гроссман вспомнил о том, что он еврей. Об этом ему напомнили уготованные его народу газовые камеры и печи крематориев. Это был его личный счёт.
Он становится самым пламенным членом ЕАК — Еврейского антифашистского комитета. Он привлекает массу западных денег и западных сердец. Потом, в 1948 году, это спасёт его от ареста и расстрела, когда комитет начнут разгонять, когда убьют Михоэлса.
За участие в Сталинградской битве он получил орден Красной Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара».
Мемориал не учебник, оттуда слова не выкинешь и надпись не сотрешь.
Василий Гроссман стал неприкосновенным и мог просить у Сталина всё, что угодно. Но не просил ничего: он ненавидел его. Гроссман даже не обращал внимания на то, что его репортажи часто печатает иностранная пресса и не смеет публиковать советская.
Он должен был сокрушить фашизм.
Он первым заговорил о холокосте в книге «Треблинский ад».
В 1946 году они с Эренбургом составили «Чёрную книгу» о горькой участи евреев. Но в антисемитском СССР она долго не выходила, её опубликовали только в Израиле в 1980 году.
Но вот окончилась война, обет исполнен, фашизм осуждён, разбит, вне закона, очерки вошли в книгу «В годы войны», можно почить на лаврах.
Но Василий Семёнович даёт следующий обет: сокрушить сталинизм.
Пока крушил, разобрался в ленинизме и стал крушить советский строй как таковой.
В 1946 году он начинает писать первую часть дилогии «За правое дело». Вполголоса, выжимая из себя правоверность. Но это — бомба без часового механизма. «Семнадцать мгновений весны» без Штирлица. Живой Гитлер, живой Муссолини, живые Кейтель и Йодль.
Сталина практически нет, этот злодей всегда казался Гроссману серым, как деревенский валенок.
Но это же не семидесятые, а пятидесятые годы, какой там Штирлиц, Сталин ещё жив. И начинается ад: вопли критиков,
Твардовский резко отказывается печатать роман, роман крошат в капусту, переделывают, трижды меняют название. Но Гроссман не боится ничего: он входил в Майданек, Треблинку и Собибор вместе с войсками, он видел Шоа — холокост.
Твардовский потом к роману потеплел, а сначала спрашивал у Гроссмана, советский ли он человек.
Гроссман пытался признать ошибки, писал Сталину, но унижаться он не умел, получилась угроза: напишу вторую часть, тогда вы увидите, где раки зимуют. Словом, он ждал ареста в том самом марте, когда случилось то, что он так победно провозгласил в самиздатовской, посмертной, «пилотной» ко второй части дилогии «Жизнь и судьба» повести «Всё течет»: «И вдруг пятого марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви.
Сталин умер беспланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина.
Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шёпотом передавали друг другу: „Подох... подох...“, и этот шёпот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Чёрная ночь стояла над полярной землёй. Но лёд на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел».
Роман вышел, а Гроссман засел за вторую часть.
Вторая часть называлась «Жизнь и судьба». Из нашей плачевной истории ХХ века нам известно, что судьба — индейка, а жизнь — копейка. Судьба — нечто недоступное, чуждое, праздничное, американское блюдо ко Дню благодарения.
Советский работяга не мог не только попробовать индейку, он не мог и увидеть её — разве что на картинке в дореволюционной книжице «Птичий двор бабушки Татьяны».
Индейка падала сверху и била клювом в затылок советских гадких утят. Им не давали времени стать лебедями.
А Гроссман успел. Он содрал с себя советский пух, эту мерзкую шкуру, даже семь шкур. Он пел лебединую песню, перекидывался в орла, он ястребом и соколом долбил своих жалких современников. Хищный лебедь-оборотень, птица Феникс, добровольно сгорающая на собственном костре.
А что жизнь — копейка и для Третьего рейха, и для IV Интернационала, знали все, кто ходил под свастикой или под серпом и молотом с красной звездой.
Закончив свой потрясающий труд, Гроссман в 1961 году стал штурмовать замерзающие перед ним от ужаса оттепельные редакции.
Твардовский прямо спросил: «Ты хочешь, чтобы я положил партбилет?» «Да, хочу», — честно ответил писатель. А ведь он мог жить припеваючи, получать ветеранский паек. Ему дали квартиру в писательском доме у метро «Аэропорт», чтобы удобнее было следить за его контактами. Из горячих рук НКВД и МГБ он перешёл по эстафете в теплые руки КГБ — его недрёманное око не выпускало писателя из виду. А у него был один из первых в Москве телевизоров, коллеги ходили посмотреть. И он увеё от очередного мужа очередную жену.
У Ольги кончились силы, она хотела отдохнуть и пожить для себя, а не носить передачи мужу-декабристу. Она заклинала его сжечь рукопись и даже пыталась отнести её в КГБ (чистый Оруэлл: «Спасибо, что меня взяли, когда меня ещё можно было спасти»).
Они с сыном ели Василия Семёновича поедом, и если он не развёлся, то из чистого благородства: хотел, чтобы его вдова получала литфондовскую пенсию...
Он увёл жену у Заболоцкого, Екатерину Васильевну Короткову. Вот она была как раз декабристкой. Они не расписывались, но она скрасила его последние годы, и ей он оставил на хранение рукопись повести «Всё течёт».
Дальше начинается чистый триллер.
Трусливый Кожевников отдал роман в КГБ. КГБ захлопал крыльями и закудахтал: такое яичко ему Гроссман помог снести! Ордена, погоны, премии.
Гроссмана не арестовали, арестовали роман.
Но коварный Гроссман всех перехитрил. Он заранее припрятал у друзей несколько экземпляров. Сделал вид, что отдал всё, что было, даже забрал у машинисток пару штук. А КГБ устраивал обыски, перекапывал огороды. И это был 1961 оттепельный год!
Они поверили, что захватили всё.
Гроссман написал Хрущёву наглое письмо, требовал рукопись назад. Ходил к Суслову, наводил тень на плетень. Суслов сказал, что роман опубликуют через 250 лет.
Но куда было этим сусликам, шакалам и хорькам до матёрого серого волка, вышедшего за флажки!
Русские писатели научились писать «в стол», а режиссёры — ставить фильмы «на полку». А. Платонов считал Гроссмана ангелом. Но наши ангелы не без рогов, они бодаются. Даже с дубом, как телёнок Солженицына.
Судьба «Жизни и судьбы» и повести «Всё течёт» привела писателя к раку почки. Почку вырезали, метастазы пошли в лёгкие. Он умирал долго и мучительно, Оля и Катя ходили к нему по очереди, через день. В бреду ему чудились допросы, и он спрашивал, не предал ли кого...
15 сентября 1964 года он ушёл, научившись писать слово «Бог» с заглавной буквы.
А триллер продолжился: Андрей Дмитриевич Сахаров в собственной ванной переснял «Жизнь и судьбу» и «Всё течёт» на фотоплёнку. Владимир Войнович бог знает в каком месте переправил её на Запад. В 1974 году переправил, и в 1980-м её напечатали в Лозанне, а в 1983-м — в Париже.
В Россию Гроссман вернулся в 1988 году. Вернулся судией. Книги из нашего скорбного придела — это и был российский Нюрнберг.
Без политических деклараций Гроссман доказал, что фашизм и коммунизм тождественны. Концлагеря шли на концлагеря, застенок воевал против застенка.
Гестаповец Лисс называл старого большевика Мостовского своим учителем, советское подполье в немецком концлагере жило по сучьим законам СССР: харизматического лидера пленных майора Ершова суки-подпольщики отправили в Бухенвальд, на верную смерть, потому что он был беспартийный, из раскулаченных.
Комиссар Крымов только на Лубянке вспомнил, что помог в 1938-м посадить друга, немецкого коммуниста. С помощью Гроссмана мы совершаем экскурсию в газовую камеру и умираем вместе с хирургом Софьей Осиповной и маленьким Давидом.
А потом умираем с тысячами детей, медленно умираем от голода в голодомор на Украине. Это было куда дольше. Гроссман готов простить тех, кто предавал в застенке, но не собирается списывать грехи с тех, кто вместо зернистой икры «боялся получить кетовую». «Подлый, икорный страх». Его вердикт: дети подземелья, весь XX век, и немцы, и русские.
Морлоки, уже не люди.
Он понял, что свобода не только в Слове, но и в деле: шить сапоги, печь булки, растить свой урожай. Это теперь называется «рыночная экономика».
Он понял, что «буржуи», «кулаки», лавочники, середняки были правы. Это тогда только Солженицын понимал.
Заговор. Заговор русской литературы против русской чумы.
Нобелевскую премию не дают посмертно, иначе русские писатели и поэты разорили бы Нобелевский комитет...
Валерия Новодворская
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Суббота, 26.11.2022, 06:19 | Сообщение # 499 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Статус: Offline
| 
Этих еврейских близнецов разлучили в шестимесячном возрасте. Один рос в гитлерюгенде, а другому снилось, как он заколол брата-фашиста штыком...
Однажды маленький немецкий мальчик по имени Оскар услышал от друзей незнакомое слово Jude и в тот же день спросил у бабушки, что оно значит. Бабушка строго на него посмотрела, ответила, что это очень плохое слово, и велела больше никогда в жизни, ни в коем случае его не произносить. Оскар послушно кивнул, не подозревая, что Jude – еврей – это он сам.
Да и откуда было ему знать о своём происхождении, если его мать, немка Лизель Штёр, увезла его в Германию в шестимесячном возрасте – после развода с его отцом, румынским евреем Йозефом Юфе. Отец и брат-близнец Джек остались на острове Тринидад, на котором мальчики и появились на свет в январе 1933 года. У близнецов была ещё старшая сестра Соня – её мать тоже взяла в Германию вместе с Оскаром.

Их переезд случился в том же году, когда Гитлер пришел к власти. Это не сулило Оскару и Соне ничего хорошего, и мать постаралась сделать всё возможное, чтобы скрыть еврейское происхождение детей. Об отце и живущем где-то на другом краю земли брате даже не упоминалось. Да и воспитанием в основном занималась бабушка – набожная католичка, которая была крайне недовольна браком дочери с евреем...
Оскар считал себя чистокровным немцем, но директор его школы сразу задумался: почему это вдруг у немецкого мальчика еврейская фамилия?
И тут же у Оскара поинтересовался...
Тот интуитивно почувствовал, что вопрос с подвохом, и на ходу начал импровизировать, сказав, что фамилия на самом деле французская и произносится как «Юфэй». Поверил директор или нет, неизвестно, но больше Оскара не трогал.
Увы, на этом дознания не закончились. Год спустя, когда Оскару было около восьми лет, нацисты подняли документы о браке Лизель Штёр с евреем и узнали правду о происхождении детей. Соню и Оскара взяли под стражу, чтобы отправить вместе с другими еврейскими детьми в лагерь смерти. Спас их брат матери Макс Штёр, занимавший достаточно высокий пост в НСДАП. Он задействовал свои каналы и убедил исполнительные власти, что детей арестовали по ошибке. Соню и Оскара отпустили, после чего бабушка немедленно их крестила и сменила отцовскую фамилию Юфе на материнскую Штёр.
Когда Оскару исполнилось десять лет, он вступил в гитлерюгенд. Тогда мальчик уже знал о своем еврейском происхождении, но отказ вызвал бы дополнительные подозрения, ведь членство было обязательным для немецких детей. Так что Оскару пришлось присоединиться к одноклассникам, чтобы не навлекать на себя лишнюю опасность.
Тем временем его брат Джек спокойно рос в Порт-оф-Спейн на острове Тринидад вдали от войны, даже не подозревая, что еврейство может представлять опасность. Об этом он задумался, лишь когда узнал, что почти все его родственники по отцовской линии погибли от рук нацистов. Спаслась только тётя – сестра отца. После войны она переехала в Венесуэлу, и Йозеф Юфе отдал сына ей на воспитание. Тётя была набожной еврейкой, поэтому Джек с детства хорошо знал основы Торы и еврейскую культуру.
В 1948 году, как только было создано Государство Израиль, они туда с тётей тут же переехали. Тогда же он начал помогать матери и брату, отправляя им вещи первой необходимости в разрушенную войной Германию.
Что у него в Германии есть брат-близнец, Джек узнал примерно в восемь лет. Оскару о существовании Джека рассказали почти тогда же.
Удивительно, что реакцией мальчиков на эти новости стали очень похожие сны, в которых они воевали друг против друга. Оскар видел себя немецким лётчиком-истребителем, который уничтожал самолёт брата. Джеку же снилось, что он, будучи солдатом антигитлеровской коалиции, заколол брата-фашиста штыком.
Впервые братья встретились в 1954 году по инициативе Джека. Он тогда только мобилизовался из военно-морского флота и собирался переселиться к отцу, который за это время переехал в США. Однако перед этим Джек решил заехать в Германию и наконец-то встретиться с братом. Увы, никакого трогательного воссоединения не произошло.
Братья не понравились друг другу с первого взгляда – и особенно их раздражало внешнее сходство. По совпадению, даже одеты они были почти одинаково, что только усилило неприязнь. К тому же Джека очень задело, что брат первым делом попросил его снять бирки с чемоданов: он был с детства приучен скрывать свое еврейство, и это вошло у него в привычку. И хотя реальная опасность больше не грозила, он всё равно боялся, что израильские багажные бирки выдадут происхождение Джека, а значит, и его собственное. Джек, в отличие от Оскара, гордился своим еврейством и не понимал, почему он должен его скрывать.
Они провели вместе шесть дней и изо всех сил старались подружиться, но обнаружили, что пытаются во всём соперничать друг с другом вплоть до мелочей. Так что расставание вызвало у братьев едва ли не больше радостных эмоций, чем встреча.
Джек уехал в Штаты, а Оскар остался в Германии, после чего они не виделись 25 лет. Всё их общение состояло в праздничных открытках, которые они ради приличия посылали друг другу пару раз в год.
В 1979 году жена Джека прочитала в газете объявление, где однояйцевых близнецов приглашали принять участие в масштабном исследовании. Она решила, что это исследование может помочь братьям наладить отношения, и рассказала о нём Джеку. Тот предложил брату поучаствовать – и Оскар, как это ни странно, согласился.
Оба брата приехали на неделю в Университет Миннесоты и по ходу исследования действительно смогли сдружиться. Попутно обнаружилось, что у них много общего не только во внешности, но и в привычках – оба любили острую пищу, первым делом заглядывали на последнюю страницу книги, а ещё обожали разыгрывать друзей и громко чихать на публике.
Нельзя сказать, что со второй попытки отношения сразу стали идеальными. Оскар и Джек по-прежнему то и дело ругались и спорили, особенно если разговор заходил на религиозные или политические темы. Но со временем споров стало меньше, а про религию и политику они просто предпочитали не говорить.
После этого Джек и Оскар начали появляться на публике – их приглашали в телевизионные программы, снимали в документальных фильмах, брали у них интервью. Джек по-прежнему жил в США, где торговал одеждой и аксессуарами, Оскар – в Германии, где работал шахтёром. Но теперь братья время от времени встречались и вместе проводили праздники, выезжая куда-нибудь двумя семьями.
По словам их родственников, конкуренция никуда не исчезла, но теперь это была не вражда, а скорее дружеское соперничество...

Оскар ушёл из жизни первым: работа в шахте сказалась на его здоровье – он умер от рака лёгких в 1997 году в возрасте 64 лет.
Брат глубоко переживал его смерть, но сознательно не приехал на похороны считая, что его родным будет тяжело видеть человека, который выглядит точно так же, как их дорогой Оскар.
Однако он поддерживал отношения с его семьей, и племянники уже после смерти отца неоднократно приезжали к нему в гости в Америку.
Джек пережил Оскара почти на двадцать лет – он умер в 2015 году в возрасте 82 лет.
Причиной смерти тоже стал рак, только в случае Джека – рак желудка. Жизни обоих братьев, таких похожих и таких разных, унесла одна и та же болезнь.
Елена Горовиц
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Среда, 30.11.2022, 06:52 | Сообщение # 500 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 719
Статус: Offline
| воспоминания о талантливом портном, печальное сообщение о котором пришло недавно:
Пережив Холокост, он уехал в США – шить костюмы для президентов, звёзд Голливуда и крупных мафиози...
Когда в 1972-м Ричард Никсон стал первым в истории президентом США, посетившим Китайскую Народную Республику, для него было важно произвести благоприятное впечатление с первого взгляда. От этой встречи зависели отношения двух стран, поставленные на паузу на несколько десятков лет...
В аэропорту Никсон предстал перед первым главой госсовета КНР Чжоу Эньлаем в стильном пальто благородного серого цвета – неброском, но солидном и безупречно подогнанном по фигуре. Визит прошёл успешно, и в обеих странах его до сих пор считают важной исторической вехой. Конечно, роль сыграл далеко не только имидж, но он помог Никсону.
Так вот, то самое пальто сшил для него еврей из Нью-Йорка Стивен Сален – портной с почти вековым стажем, скончавшийся неделю назад, 23 ноября в возрасте 103 лет...

Стивен Сален родился 10 апреля 1919 года в семье Занвела и Эстер Соломон. Мальчика назвали Залманом, так что в детстве он был дважды Соломоном – по имени и по фамилии.
Семья жила в небольшом местечке в Подкарпатской Руси – сейчас эта область находится на территории Украины, а в то время входила в состав Чехословакии.
У Залмана было десять братьев и сестёр, денег вечно не хватало, и ещё подростком он начал учиться шитью, чтобы помогать родителям. Это занятие невероятно его увлекало, но всю жизнь оставаться скромным местечковым портным Залман не желал. Он поступил в торгово-ремесленное училище, основанное «Джойнтом», и начал всерьёз изучать швейное дело.

Увы, долго учиться ему не пришлось: осенью 1938 года гитлеровцы вошли в Чехословакию, а Подкарпатская Русь была передана Венгрии.
Венгерских евреев с 1940 года насильно вербовали в так называемые трудовые батальоны – отряды, которые занимались на фронте тяжёлым вспомогательным трудом: рубили лес, прокладывали и ремонтировали дороги, осушали болота.
Залман Соломон пытался скрыть, что он еврей, и выдавал себя за чеха по фамилии Славик. Какое-то время это работало, но с ужесточением антисемитской политики его обман вскрылся, и Залмана в составе трудового батальона отправили на восточный фронт.
Подневольным служащим трудовых батальонов не выдавали обмундирования, их держали впроголодь и заставляли работать на износ. Офицеры относились к ним крайне жестоко и могли запросто убить ради забавы. В батальонах состояли в основном евреи, а также представители национальных меньшинств, живших на территории Венгрии – сербы, румыны.
Залман провёл в таком батальоне два года, и напоминание об этих годах в виде искалеченных пальцев ног у него осталось на всю жизнь...
В 1943-м его батальон освободили советские войска и Залман присоединился к чехословацкому военному формированию в составе Советской армии. Однако трудовая повинность подорвала его здоровье, и на передовую он не попал – стал снабженцем.
Победу Залман встретил в Праге в звании сержанта, а после окончания войны ещё около полутора лет оставался в армии и занимался снабжением.
В условиях разрухи добывать провиант и обмундирование было очень непросто, и Залману приходилось приторговывать на чёрном рынке.
У одного из торговцев была двоюродная сестра по имени Франтишка. Стивен влюбился в неё с первого взгляда, та ответила ему взаимностью, и через две недели после знакомства состоялась свадьба.
В 1949 году молодые супруги перебрались в США, где Залман Соломон-Славик стал Стивеном Саленом, а его жена из Франтишки превратилась во Фрэнсис.
Стивену удалось найти место портного в одной из нью-йоркских мастерских. Наконец-то он мог посвятить себя любимому делу! Со временем он открыл собственное ателье, куда заглядывало немало высокопоставленных заказчиков – вплоть до президентов. Помимо Никсона Сален шил костюмы для его преемника Джеральда Форда, для Генри Киссинджера и многих других завсегдатаев Белого дома...

Больше всего Стивена раздражало, когда он видел высокопоставленного человека в неказистой одежде. По воспоминаниям дочери Элейн, портной сразу начинал громко кричать прямо в экран телевизора: «Этот костюм сидит ужасно! Как ты думаешь избираться, кто же за тебя будет голосовать?! Приходи ко мне, я сошью тебе нормальный костюм!»
По просьбе отца Элейн не раз писала этим людям письма: приглашала прийти в ателье. Изредка на них даже приходили ответы с благодарностью...

Стивен отточил мастерство до такой степени, что мог снимать мерку на глаз – хотя, конечно, всё равно тщательно делал все положенные замеры. Однажды к нему обратились братья-близнецы Ли и Лесли Кено – влиятельные фигуры в антикварном бизнесе и авторитетные оценщики. Ли сотрудничал с аукционом Christie's, а Лесли и сейчас занимает пост вице-президента одного из подразделений аукциона Sotheby's.
Стивен Сален с первого взгляда определил, что у обоих близнецов одна рука на полсантиметра длиннее другой, что произвело впечатление на бизнесменов, и они вошли в число постоянных клиентов Салена.
На пенсию Стивен Сален ушёл только в 95 лет. До тех пор он оставался неисправимым трудоголиком: работал шесть дней в неделю, а в седьмой шел закупать материалы.
И хотя Салена прозвали портным президентов, у его мастерской не было даже сайта, а узнавали о ней посредством сарафанного радио.
В числе последних клиентов Салена были режиссёр Мартин Скорсезе и актер Харви Кейтель.
Он также принимал заказы от дорогих бутиков мужской одежды, которые потом перепродавали его костюмы под собственным брендом.
Не обходилось и без курьёзов: однажды Сален снимал мерки с директора ФБР Джона Гувера. Когда тот стоял в одних трусах, к портному вошел другой клиент – крупный мафиозный босс...
Как вспоминает внучка портного Рэйчел, это была любимая история деда – он не упускал случая её рассказать.

Но если про забавные случаи из портновской практики Стивен рассказывал с удовольствием, то о Холокосте, годах войны и службе в трудовом батальоне он вспоминать не любил. И несмотря на просьбы детей и внуков, отказывался рассказывать о пережитых ужасах в подробностях.
«Но мы видели его отмороженные и изуродованные пальцы, поэтому какие-то обрывки ему всё же пришлось нам сообщить, – говорит его дочь Элейн. – Он рассказал историю, как ему выкручивали пальцы на ногах, а он даже этого не чувствовал». Однако в старости Стивен Сален всё же решил поделиться воспоминаниями о Холокосте.
В мае 1998 года для фонда «Шоа», основанного известным режиссёром Стивеном Спилбергом, он записал двухчасовое интервью о Катастрофе. Сейчас это свидетельство хранится в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне.
Елена Горовиц
Сообщение отредактировал Примерчик - Среда, 30.11.2022, 07:05 |
| |
| |
| smiles | Дата: Четверг, 15.12.2022, 15:19 | Сообщение # 501 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| 45 лет со дня смерти Поэта
Не зови меня… Не зови — я и так приду!
Как и Бродский, он не хотел, но вынужден был выехать по израильской визе. От судьбы не уйдёшь...
Со смертью Галича в СССР закончилась целая эпоха. Его песни, зазвучавшие с начала 60-х годов, открыли вход в новое пространство — пространство свободы. Мы, наверное, до сих пор недооценили масштабы его творчества. Как настоящий мастер, Александр Аркадьевич мог предвидеть будущее, предчувствовать перемены:
И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Родился будущий поэт 19 октября 1918 г. в Екатеринославе (потом Днепропетровск, теперь Днепр).
Его отец, Арон Самойлович Гинзбург был экономистом; мать, Фанни Борисовна Векслер, преподавала музыку.
В 1923 г. семья переехала в Москву, где поселилась в том самом доме Веневитинова в Кривоколенном переулке, в котором Пушкин впервые читал свою трагедию «Борис Годунов».
После девятого класса Александр почти одновременно поступил в Литературный институт, который вскоре оставил, и в Оперно-драматическую студию под руководством Станиславского.
Его курс стал последним курсом, который вёл этот выдающийся реформатор театра.
Внешний облик Гинзбурга соответствовал брюсовскому «юноша бледный со взором горящим».
Студийцы видели и слушали великих актёров — Москвина, Качалова, Тарханова.
Станиславский вскоре умер, и Александр, так и не получив диплома, бросил студию и перешёл в Театр-студию Арбузова.
В феврале 1940 г. студия дебютировала своим революционно-романтическим спектаклем «Город на заре» о строителях Комсомольска; одним из авторов пьесы стал Гинзбург, для которого это был дебют и в драматургии...
Началась война, но Александр был признан непригодным к службе из-за порока сердца. Он поработал в Театре революционной героики и сатиры в Грозном, затем уехал в Ташкент, где Арбузов начал формировать труппу из своих бывших студийцев, которая вскоре под названием «Передвижной театр» колесила по фронтам, давая спектакли вблизи передовой.
После войны Александр вернулся в Москву и сосредоточился на драматургии, взяв псевдоним Галич, составленный из первой буквы фамилии, двух первых букв имени и последних букв отчества.
Началось всё с весёлой комедии «Вас вызывает Таймыр», поставленной в 1948 г. в Театре сатиры и триумфально прошедшей по сценам большинства театров страны.
За ней последовали «Под счастливой звездой» (1954) и «Походный марш» (1957). Песня из этого спектакля «До свиданья, мама, не горюй» на музыку Соловьёва-Седого стала всесоюзным шлягером.
В 1954 г. Михаил Калатозов снял по сценарию Галича полюбившуюся и памятную нам лирическую комедию «Верные друзья» с Меркурьевым, Чирковым и Борисовым.
В 1955-м Галича приняли в Союз писателей, а в 1958-м — в Союз кинематографистов.
Затем один за другим на экраны выходят снятые по его сценариям шесть фильмов. В их числе — гениальная, до сих пор не превзойденная экранизация романа Александра Грина «Бегущая по волнам» и задушевная военная мелодрама Ростоцкого «На семи ветрах» с Вячеславом Тихоновым и Ларисой Лужиной, вышедшая на экраны в 1962-м.
Там прозвучала песня-вальс «Сердце, молчи» на слова Галича (музыка Кирилла Молчанова), которую прекрасно исполнил Вячеслав Тихонов.
В 1957-м Галич закончил начатую ещё в 1945 г. пьесу «Матросская тишина».
В ней автор проявился уже совершенно другим человеком, не соответствовавшим идеологическим канонам. Сюжет пьесы можно пересказать в нескольких словах.
Старый местечковый еврей Абрам Шварц мечтает, чтобы его сын Давид стал знаменитым скрипачом, но война разрушает его мечты. Сам Абрам погибает в гетто, а Давид уходит на фронт и погибает...
С этой пьесы собирался 1958 году начать свой путь театр-студия «Современник». В спектакле, поставленном О.Ефремовым, были заняты тогда еще никому неизвестные актеры Е.Евстигнеев (Абрам Шварц), О.Табаков, И.Кваша и другие будущие звёзды «Современника».
Однако до премьеры дело так и не дошло. Полностью отрепетированную пьесу запретили показывать, заявив автору, что он искажённо представляет роль евреев в Великой Отечественной войне.
Закрытие спектакля Галич потом описал в повести «Генеральная репетиция».
Эта горькая, искренняя, мастерски построенная книга была названа Юрием Нагибиным прекрасной прозой и тогда, конечно, не была издана.
В ней Галич описал происшедший сразу после показа разговор между ним и одной из принимавших спектакль руководящей дамой — инструктором ЦК, которая сказала ему: «Вы хотите, чтобы шёл спектакль, в котором говорится, что во многом евреи выиграли войну? Это евреи-то?!»
Несмотря на этот инцидент, Галич по-прежнему оставался одним из самых преуспевающих драматургов.
В театрах продолжали идти спектакли по его пьесам, режиссёры снимали фильмы по его сценариям. Благополучный сценарист, комедиограф, баловень судьбы, острослов, любимец светской театральной, литературной, киношной Москвы, популярный, хорошо обеспеченный материально, он вполне мог бы почивать на лаврах.
Но в начале 60-х в Галиче просыпается бард-сатирик, и на свет одна за другой появляются песни, которые благодаря магнитофонным записям, мгновенно становятся популярными. Это уже не те песни о молодёжи, «отличающиеся романтической приподнятостью», как писала о них «Литературная энциклопедия», а совершенно другие песни, вернее, стихи, исполняемые речитативом под собственный аккомпанемент на гитаре.
Песенной мелодии в них практически нет; просто это — доходчивая и запоминающаяся форма донесения их до слушателя. Сам Галич об этом сказал: «Если я буду читать без треньканья — это будет называться чтением, если под треньканье — это будет называться пением…»
Такие горестно-насмешливые стихи, естественно, не печатали и автору не предоставляли аудитории для их исполнения.
Ещё в 1965 г. Галич пел о таком отношении к неугодным авторам в одной из песен:
Вы такие нестерпимо ражие
И такие, в сущности, примерные.
Всё томят вас бури вернисажные,
Всё шатают паводки премьерные.
Но стоит картина на подрамнике, —
Вот и всё! … А этого достаточно.
Бродят между ражими Добрынями
Тунеядцы Несторы и Пимены.
Их имён с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный:
«Эрика» берёт четыре копии,
Вот и всё! …А этого достаточно.
И гремит — напетое вполголоса,
И гудит — прочитанное шёпотом.
Ни партера нет, ни лож, ни яруса,
Клака не безумствует припадочно, —
Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и всё! …А этого достаточно.
Есть — стоит картина на подрамнике!
Есть — отстуканы четыре копии!
Есть магнитофон системы «Яуза»!
Этого до-ста-точ-но !
Вначале Галич писал шутливые, сатирические песни и баллады: про сержанта Леночку, ставшую шахиней; про товарища Парамонову из ВЦСПС («Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать, вот стою я перед вами, словно голенький»); про директора комиссионного магазина Копылова («А я стреляный, а я с опытом, а я враз понял: пропал пропадом»); о том, как «шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики;
Ах, у психов жизнь — так бы жил любой: хочешь — спать ложись,
хочешь — песни пой!» и многие другие...
Свои песни Галич исполнял где угодно, в основном на квартирах знакомых, а часто и малознакомых людей, зная, что среди слушателей наверняка были такие, кто докладывал об его репертуаре куда следует.
Благодаря магнитофонным записям эти песни распространялись по стране с быстротой эпидемии гриппа.
Я помню, как мы их доставали, переписывали и с удовольствием пели. Явной политики в них, конечно, не было, но официальной идеологии они были совершенно чужды и потому неприемлемы, ибо резко диссонировали с официальной советской эстетикой.
В одной из таких баллад, «Про маляров, истопника и теорию относительности», Галич шутливо рассказывал о том, что «гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот», и теперь «шарик крутится и вертится, и всё время не туда!».
Насмехался Галич над тупостью чиновников от идеологии, привлекавших передовиков производства к выступлениям по шпаргалке:
Только принял я сто грамм для почина
(Ну, не более чем сто, чтоб я помер!),
Вижу — к дому подъезжает машина,
И гляжу — на ней обкомовский номер!
Ну, сажусь я порученцу на ноги,
Он — листок мне, я и тут не перечу.
«Ознакомься, — говорит, — по дороге
Со своею выдающейся речью!»
Ладно, — мыслю, — набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всей культурностью сбоку.
Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи своё рабочее слово!
Выхожу я и не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
«Израильская, — говорю, — военщина
Известна всему свету!
Как мать, — говорю, — и как женщина
Требую их к ответу!»
Тут отвисла у меня прямо челюсть,
Ведь бывают же такие промашки!
Этот сучий сын, пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!
Всего Галич написал около 170 песен.
Естественно, охватить такой массив в рамках одного очерка невозможно, но мне хочется показать стихи, настоящие стихи, которые отражали болевые точки небезразличной части общества.
Неважно, что они исполнялись под нехитрую мелодию.
Сам Галич написал об этом так: «Я не бард, я поэт. Пишу свои стихи, которые только притворяются стихами, а я только притворяюсь, что пою».
Вот одна из самых известных песен Галича — «Старательский вальсок».
В ней он говорит о моральных принципах («Промолчи — попадёшь в первачи…»):
…не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.
Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем: доходней молчание,
Потому что молчание — золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!..
*****
замечательная история жизни талантливого Поэта и сценариста на этом не заканчивается и потому приглашаю к продолжению ...
Сообщение отредактировал smiles - Пятница, 16.12.2022, 06:13 |
| |
| |
| smiles | Дата: Пятница, 16.12.2022, 06:19 | Сообщение # 502 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| Отдельная тема в творчестве Галича — лагерная. Такие стихи вызывали у ревнителей официоза особую злобу. Они заявляли, что Галич не имеет права писать от имени тех, чья судьба, к счастью, не выпала на его долю, в частности, узников лагерей.
Одна из таких песен — «Облака»:
Облака плывут, облака
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыплёнка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
… Я подковой вмёрз в санный след,
В лёд, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.
До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку ещё двести грамм!
…Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!
Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот…
А мне четвёртого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.
И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака…
Галич очень болезненно реагировал на подобные обвинения в свой адрес («не имеет права») и однажды попытался рассказать об этом в песне о самом себе, которую назвал «Черновик эпитафии» (т. е. черновик своей надгробной надписи):
Худо было мне, люди, худо…
Но едва лишь начну про это,
Люди спрашивают: откуда?
Где подслушано? Кем напето?
Не моя это вроде боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведёт труба.
Сколько раз на меня стучали
И дивились, что я на воле.
Ну а если б я гнил в Сучане,
Вам бы легче дышалось, что ли?
…Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую, да помяните!
Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада
…А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!
Вот как написал о нём протоиерей Александр Мень: «Галич говорил и пел о том, о чём шептались, что многие уже хорошо знали. Он блестяще владел городским жаргоном, воплощаясь то в героев, то в антигероев нашего времени. Мне он казался своего рода мифом, собирательным образом, но однажды я увидел человека почти величественного, красивого, барственного.
Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Это был артист — в высоком смысле этого слова».
Владимир Буковский называл Александра Галича Гомером, песни которого прокладывали путь в лабиринте души каждого советского человека.
В 1964 г. Галич написал вроде бы шутливое, а на самом деле глубокое по смыслу стихотворение «Предостережение», обращённое к тем евреям-конформистам, которые рьяно приспосабливались к власти:
Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте,
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.
А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам лехаим,
А таскаться на допрос с вертухаем.
Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос… синантом
И украсят лапсердак аксельбантом.
Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на елее в Орфеи…
Так не шейте ж вы ливреи, евреи.
Движущий мотив творчества Александра Галича — боль за страну, за своих соотечественников. Галич написал много стихов, посвящённых его современникам: Виктору Некрасову, Мстиславу Ростроповичу, Льву Копелеву, Варламу Шаламову, правозащитнику и одному из первых среди жертв принудительного психиатрического лечения генералу Петру Григоренко и другим людям, вызывавшим его уважение.
Очень значимы стихи Галича, посвящённые памяти великих фигур, оставивших огромный след в истории культуры: Александра Вертинского, Михаила Зощенко, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и других.
Расскажу о нескольких произведениях этой тематики, с моей точки зрения, самых сильных.
Великий польский писатель, врач и педагог Януш Корчак (Яков Гольдштейн) не счёл возможным оставить своих воспитанников из школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве, добровольно поехал вместе с ними в лагерь уничтожения Треблинка и там погиб.
Приведу только одно из многих его мудрых высказываний: «Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а самим собой»...
Поэму, посвящённую ему, Галич назвал «Кадиш» (в переводе — «еврейская поминальная молитва»). Вот несколько отрывков из неё:
…И бежит за мною переводчик,
Робко прикасается к плечу, —
«Вам разрешено остаться, Корчак», —
Если верить сказке, я молчу.
К поезду, к чугунному парому,
Я веду детей, как на урок,
Надо вдоль вагонов по перрону,
Вдоль, а мы шагаем поперёк.
Рваными ботинками бряцая,
Мы идем не вдоль, а поперёк,
И берут, смешавшись, полицаи
Кожаной рукой под козырёк.
И стихает плач в аду вагонном,
И над всей прощальной маятой —
Пламенем на знамени зелёном —
Клевер, клевер, клевер золотой.
Может, в жизни было по-другому,
Только эта сказка вам не врёт:
К своему последнему вагону,
К своему чистилищу-вагону,
К пахнущему хлоркою вагону
С песнею подходит «Дом сирот»…
…Уходят из Варшавы поезда,
И всё пустее гетто, всё темней;
Глядит в окно чердачная звезда,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью своей…
Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш черёд, как ни крути,
Ну что ж, гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!
…Звезда в окне и на груди — звезда,
И не поймешь, которая ясней,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
Глядит в окно вечерняя звезда,
А я прощаюсь с памятью моей…
Как я устал повторять бесконечно всё то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги!..
В 1948 г. Соломон Михоэлс за два дня до отъезда в Минск, где его убили по приказу Сталина, в своём кабинете в московском еврейском театре ГОСЕТ показал Галичу материалы о восстании в Варшавском гетто и, прощаясь, тихо спросил: «Ты не забудешь?» ...
Через 16 лет уже совсем другой Галич посвятил Михоэлсу песню «Поезд».
Вот её часть:
Ни гневом, ни порицаньем
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.
Не рвёмся ни в бой, ни в поиск —
Всё праведно, всё душевно…
Но помни: отходит поезд!
Ты слышишь? Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.
А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода
из колодца!
А где-то по рельсам, по рельсам,
по рельсам —
Колёса, колёса, колёса, колёса…
…От скорости века в сонности
Живём мы, в живых не значась…
Непротивление совести —
Удобнейшее из чудачеств!
И только порой под сердцем
Кольнёт тоскливо и гневно:
Уходит наш поезд в Освенцим!
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно!
А как наши судьбы — как будто похожи:
И на гору вместе, и вместе с откоса!
Но вечно — по рельсам, по сердцу, по коже —
Колёса, колёса, колёса, колёса!
Галич тяжело переживает потери друзей во всех смыслах — и уходы из жизни своих настоящих друзей, и перерождение ныне живущих в людей, которые категорически для него неприемлемы.
Одно из самых горьких, самых сильных, самых обличающих стихотворений Галич посвятил памяти Бориса Леонидовича Пастернака, травля которого после присуждения ему в 1958 г. Нобелевской премии привела к позорному для всей страны исключению великого поэта из Союза писателей, а через два года — к смерти.
В этом стихотворении, написанном в 1966 г., Галич напомнил и о самоубийстве Марины Цветаевой в Елабуге, и о сумасшествии с последующей смертью от голода в лагере в Сучане Осипа Мандельштама, и том, что в единственном газетном объявлении о смерти Пастернака он, многолетний и по-настоящему выдающийся член Союза писателей (из которого был исключён), издевательски был назван всего лишь членом Литфонда — организации, в которую входят писательская поликлиника и другие бытовые службы, и о том, как вели себя некоторые писатели на том постыдном заседании.
Памяти Пастернака
Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели…
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье…
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские письмэнники
На поминки его поспели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..
И не то чтобы с чем-то зá сорок —
Ровно семьдесят, возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок —
Член Литфонда, усопший смертный!
Ах, осыпались лапы ёлочьи,
Отзвенели его метели…
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!
«Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…»
Нет, никакая не свеча —
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!
И кто-то спьяну вопрошал:
За что? Кого там? —
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом…
Мы не забудем этот смех И эту скуку!
Мы — поимённо! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..
«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку…»
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул…
А над гробом встали мародёры
И несут почётный ка-ра-ул!
Это стихотворение прозвучало на практически единственном легальном выступлении Галича перед большой аудиторией. Это произошло в марте 1968-го в новосибирском Академгородке. Галич начал с песни «Промолчи», которая задала тон всему выступлению («Промолчи — попадёшь в палачи»). Когда же через несколько минут он исполнил песню «Памяти Пастернака» на приведённые выше стихи, весь двухтысячный зал поднялся со своих мест и некоторое время стоял молча, отдавая дань любви и уважения Пастернаку и должное — мужеству Галича, после чего разразился длительными аплодисментами.
Галич получил приз — старинное гусиное перо из тёмного серебра, копию того золотого пера, которым был награждён Пушкин.
Этой серебряной копией литературная общественность России когда-то наградила Некрасова, а музей Академгородка выкупил её у родственников Некрасова и хранил.
Она и была преподнесена Александру Аркадьевичу вместе с Почётной грамотой Сибирского отделения Академии наук СССР, в которой было написано: «Мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим правдолюбием и Вашим мужеством…»
Галич тогда ещё не знал, что через три года он сам будет исключён из Союза писателей, а вскоре и из Союза кинематографистов, что закроют его фильмы (либо уберут из титров его фамилию) и снимут с показа спектакли по его сценариям.
На этом постыдном заседании СП он был исключён за «…написание и исполнение произведений антисоветской направленности, носящих клеветнический характер».
Из присутствовавших писателей только А.Арбузов, В.Катаев и А.Барто посчитали возможным ограничиться выговором, но их пригласили в другую комнату, настойчиво объяснили, что голосование должно быть единогласным, и они присоединились ко всем остальным.
Как тут не вспомнить строки Галича: «…мы поимённо вспомним тех, кто поднял руку»…
Припомнили ему тогда и стихотворение «Ошибка» — по мнению выступавших, было «…оскорбительно для всех участвовавших в войне считать, что пехота полегла без толку, зазря», и никакие доводы Галича не принимались.
Вот выдержки из этого стихотворения:
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно.
И общий привет!
И не тревожит ни враг, ни побудка
Помёрзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мёртвых Россия,
Так значит — беда!
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!
Где полегла в сорок третьем пехота
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!
В 1970 г. Галич заканчивает одно из самых глубоких и разноплановых своих произведений — «Поэму о Сталине».
На самом деле это поэма-притча о трагедии и смерти невинно осуждённого человека, ставшего собирательным символом трагедии миллионов наших репрессированных соотечественников.
В поэму введена евангельская ретроспектива, так что образ страдающей женщины, идущей по жизни вслед за арестованным мужем, берёт своё начало от страданий Богоматери за своего распятого Сына.
Вот заключительные строфы поэмы, от которых щемит сердце:
…А Мадонна шла по Иудее
В платьице, застиранном до сини,
Шла она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь красивей,
С каждым вздохом делаясь печальней.
Шла, платок на голову набросив, —
Всех земных страданий средоточьем,
И уныло брёл за ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим…
Ave Maria…
А Мадонна шла по Иудее,
Оскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник;
Шла она и думала о Сыне
И о смертных горестях сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,
А в ответ ей ражие долдоны
Отпускали шутки жеребячьи…
Ave Maria…
А Мадонна шла по Иудее…
И всё легче, тоньше, всё худее
С каждым шагом становилось тело…
А вокруг шумела Иудея
И о мёртвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И роились тени в каждой пяди,
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий…
Ave Maria…
Вообще ранний Галич и Галич начала 70-х — это разные поэты по тематике, глубине, чувствам.
Корней Чуковский, большой знаток поэзии и авторитетный критик, написал о поэзии Галича: «Я упивался музыкой этих чудесных стихов — сильных, классических по своей строгой конструкции. Их истоки — некрасовские».
Когда поэта начали травить и исключили из Союза писателей, многие так называемые друзья отвернулись от опального поэта. Среди тех немногочисленных товарищей Галича, продолжавших с ним тесно общаться, был академик Пётр Леонидович Капица, с которым поэта связывали тёплые дружеские отношения.
В 1972 г. после третьего инфаркта Галич получил вторую группу инвалидности и пенсию в 54 рубля в месяц. Выгнанный отовсюду, преданный многими коллегами и знакомыми, ошельмованный, оставшийся без средств к существованию, он был вынужден думать об эмиграции.
Потом он написал: «Я думал и нервничал, сходил с ума. И я понял, что меня вынуждают к этому, делают всё возможное, чтобы я решился на этот шаг…»
Галич очень не хотел уезжать.
Его друг Юрий Нагибин написал о нём: «Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. Он не жаловался, молчал, даже улыбался, но в его песнях того периода звучала лютая тоска».
Его дочь актриса Алёна Галич-Архангельская рассказывала: «Он не хотел и не собирался уезжать. Все вокруг говорили о том, что Галич уже давно за границей, а он был дома. Потом стали приходить приглашения в Норвегию (они у меня до сих пор лежат) — принять участие в семинарах о Станиславском, но визу отцу не давали.
И вот однажды его вызвали в ОВИР, и «человек с мутными глазами», как назвал его папа, сказал: «В вашем распоряжении шесть дней — за это время вы должны продать квартиру и уехать по израильской визе».
В ответ на его удивление: «Но я не собираюсь в Израиль!» — ответили «советом»: «Сначала выедете туда, а дальше можете катиться куда угодно, но в Советском Союзе вас быть не должно!».
Ещё не покинув Россию, он мечтал о возвращении. За год до отъезда он написал «Песню об отчем доме».
Bот отрывок из неё:
Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но всё то, что случится со мной потом, —
Всё отсюда берёт разбег!
Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.
…Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.
Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня! Не зови меня…
Не зови — я и так приду!
Одну из последних песен, написанную в 1972 году, за два года до эмиграции, Галич так и назвал: «Когда я вернусь…»:
Когда я вернусь — ты не смейся, — когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу и ночлегу
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь…
Послушай, послушай — не смейся, — когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь…
Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим невластно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит меня и заплещется в сердце моём…
Когда я вернусь… О, когда я вернусь…
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побеждённый своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?..
В 1974 г. в своём предотъездном домашнем магнитофонном интервью-монологе в уже пустой квартире он, к несчастью, оказался ещё более безошибочным предсказателем: «…а уж после смерти-то я точно вернусь».
В свой последний день Галич записал на радио «Свобода» незадолго до этого законченную песню «За чужую печаль», основное содержание которой — жизнь подходит к концу...
За чужую печаль и за чьё-то незваное детство
нам воздастся огнём и мечом, и позором вранья.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер на круги своя.
Мы со сцены ушли, но ещё продолжается действо;
наши роли суфлёр дочитает, ухмылку тая.
Возвращается вечером ветер на круги своя,
возвращается боль, потому что ей некуда деться.
Мы проспали беду, промотали чужое наследство,
жизнь подходит к концу, и опять начинается детство,
пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья,
продолжается действо без нас, продолжается действо,
возвращается боль, потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер на круги своя.
Галичу не понравилось, как звучал голос, и он предложил сделать на следующий день перезапись. Но этому следующему дню не суждено было наступить:
Александр Аркадьевич Галич умер 15 декабря 1977 года в Париже от удара электрическим током при подключении музыкального комбайна, провод антенны которого, как говорилось, он вставил вместо её гнезда в розетку электросети. Обстоятельства этой смерти непонятны, было много домыслов и слухов, но официально они не подтвердились.
Большинство людей, знавших Галича, утверждает, что он разбирался в технике досконально и совершить такую нелепую ошибку просто не мог. В том, что удар током стал причиной смерти Галича, не сомневались даже его друзья — Владимир Максимов, Василий Бетаки и Михаил Шемякин.
Но дочь поэта Алёна Александровна твёрдо уверена: её отца убили...
Весьма странно повели себя и прибывшие на место происшествия полицейские и врачи. В официальных документах написано, что это был несчастный случай.
«Дело Галича», заведённое французскими спецслужбами, до сих пор содержится в сейфах под грифом «секретно». Власти обещают открыть к нему доступ не ранее 2027 года...
Михаил Гаузнер
Сообщение отредактировал smiles - Пятница, 16.12.2022, 08:01 |
| |
| |
| Рыжик | Дата: Суббота, 31.12.2022, 07:24 | Сообщение # 503 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 299
Статус: Offline
| В 32 года Марк Твен женился на Оливии Лэнгдон и признался другу: «Если бы я знал, как счастливы женатые люди, я бы женился 30 лет назад, не тратя время на выращивание зубов».
Есть такие браки, в которых люди висят гирями на ногах друг у друга. А есть браки, в которых люди поднимают друг друга всё выше и выше, как воздушные шарики.
Оливия была для Твена восхитительным воздушным шариком, с ней он поднялся на невероятные вершины духа.
Марк Твен родился в небогатой семье и очень рано начал работать: был наборщиком в редакции, плавал лоцманом по рекам Америки, пытался разбогатеть, отыскав месторождение серебра, был репортёром.
Весь этот богатый опыт пригодился ему потом в писательской жизни.
Кстати, литературный успех пришёл к нему с публикацией первого рассказа — его перепечатали почти все американские газеты.
Оливия была «из богатой, но либеральной семьи». Она была очень религиозной, но в то же время дружила с социалистами, людьми, которые боролись за права женщин.
Эти люди стали потом друзьями Марка, и не без их влияния он написал «Приключения Гекльберри Финна» — из этой книги, как говорил Хэмингуэй, выросла вся американская литература.
Это была любовь с первого взгляда, причём взгляда на портрет; приятель Твена, Чарли Лэнгдон, показал Твену медальон с портретом своей сестры и пригласил его в гости.
Он надеялся, что известный юморист, хотя и не очень хорошо воспитанный и не обладающий хорошими манерами, сможет развеселить его болезненную хрупкую сестру.
Марк Твен поехал в гости под сильным впечатлением от красоты девушки.
Через неделю приехал снова, и, наплевав на приличия, просидел с Оливией до полуночи.
В следующий свой приезд Твен признался приятелю, что влюблён в его сестру.
Чарли был неприятно поражён: какой-то юморист с Дикого Запада протягивает свои лапы к дочери почтенного капиталиста!
Он решил говорить прямо: — Слушайте, Клеменс, поезд уходит через полчаса. Вы ещё можете поспеть на него. Зачем ждать до вечера?
Уезжайте сейчас же.
Марк Твен решил, что юмористу с Дикого Запада глупо обижаться на такие пустяки и остался до вечера...
А вечером перевернулась коляска, в которой он ехал на станцию — ему, как пострадавшему, пришлось остаться у Лэнгдонов ещё несколько дней... и за эти несколько дней Оливия его полюбила.
Известность Марка Твена росла, а с ней росли и доходы.
Этот парень всё больше нравился отцу невесты — капиталист и сам когда-то начинал с нуля и знал, что такое бедность.
Марк Твен делал предложение Оливии несколько раз, и наконец-то ... после нескольких отказов оно было принято.
После свадьбы Марк старался не огорчать жену. Оливия была глубоко верующей, Твен читал ей по вечерам Библию, а перед каждым обедом произносил молитву.
Зная, что жена не одобрит некоторые из его рассказов, он не показывал их издателям.
Писал в стол, не опубликовав таким образом 15 тысяч страниц.
Оливия была главным цензором Твена. Она первой читала и правила его произведения.
Однажды пришла в ужас от выражения, которое употребил Гекльберри Финн и заставила Твена убрать фразу, которая звучала так: «Чёрт побери!»...
Дочь Клеменсов - Сьюзи - говорила: «Мама любит мораль, а папа кошек».
Оливия всю жизнь казавшаяся мужу воздушным, неземным существом стала редактором всех его произведений, и писатель ни разу об этом не пожалел — слогом она владела отменно.
К тому же, Оливия хорошо знала вкусы религиозного пуританского светского общества и указывала мужу на опасные места в его рукописях.
А он и не возражал: «Я бы перестал носить носки, если бы она только сказала, что это аморально».
Они были очень счастливы, несмотря на все различия и в день 25-тилетия, писатель записал в свою книжечку: «Считают, что любовь растёт очень быстро, но это совсем не так. Ни один человек не способен понять, что такое настоящая любовь, пока не проживёт в браке четверть века».
В их жизни было много трагедий: смерть детей, банкротство Твена, но Марка спасал его врождённый оптимизм, а Оливию - христианское смирение.
Они не мыслили жизни друг без друга.
Говорят, что Твен ни разу в жизни не повысил на жену голос, а она ни разу не устроила ему скандал. Твен был готов защищать супругу от всего света, однажды чуть не порвал со своим близким другом, который решил подшутить над Ливи.
А она, оставив все домашние дела, отправилась вместе с мужем в кругосветное плавание: за Твеном, тогда уже «шестидесятилетним юношей» требовался постоянный присмотр...
На один из юбилеев Оливии, Твен написал ей письмо, где были такие строки: «Каждый день, прожитый нами вместе, добавляет мне уверенности в том, что мы ни на секунду не пожалеем о том, что соединили наши жизни. С каждым годом я люблю тебя, моя детка, всё сильнее.
Давай смотреть вперёд - на будущие годовщины, на грядущую старость - без страха и уныния».
Когда Оливия заболела, и стало ясно, что она не поправится, писатель развесил по всему дому и саду смешные записки, чтобы её развеселить.
После смерти жены Марк Твен так и не оправился, и свои последние годы провёл в глубочайшей депрессии...
Он пережил троих из четырёх своих детей.
Материальное положение Твена также пошатнулось: его издательская компания разорилась; он вложил своё состояние и капитал жены в наборную машину Пейджа, которая, проиграв конкуренцию линотипу, оказалась финансовым провалом.
Плагиаторы украли права на несколько его книг...
Но он не мог перестать шутить.
И когда «New York Journal» по ошибке опубликовал некролог, писатель сказал свою легендарную фразу: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
Сэ́мюэл Ле́нгхорн Кле́менс, известный всему миру как Марк Твен, умер 21 апреля 1910 года от приступа стенокардии.
За год до смерти он сказал: «Я пришёл в 1835 году с кометой Галлея и рассчитываю уйти вместе с ней». Так оно и случилось.
Писатель похоронен на кладбище Вудлон...
|
| |
| |
| отец Фёдор | Дата: Пятница, 06.01.2023, 05:55 | Сообщение # 504 |
|
Группа: Гости
| В Российской Империи, как и в стране-наследнике — СССР, с презрительным отношением к себе сталкивались не только евреи...
Автором русского народного хоровода «Во поле берёзка стояла», был татарин, ставший «русским этнографом», а до того не допущенный на кафедру Казанского университета за своё татарское происхождение, а Пушкина в лицее дразнили «арапкой»…
Не говоря уже об украинском писателе Николае Васильевиче Яновском (известном всему миру под псевдонимом Гоголь) – он стал «великим русским писателем», если можно так выразиться, honoris causa, в признание заслуг.
Похожая история случилась и со знаменитым исследователем, антропологом и этнографом, которого при жизни прозвали «путешественником в вышиванке» — Николаем Миклухо-Маклаем...
Знаток 13 языков, чьё имя носит 300-километровое побережье острова Новая Гвинея – Берег Миклухо-Маклая, умер 14 апреля 1888 года в больнице Виллье при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, в возрасте всего лишь 41 года.
Родился потомок старинного казацкого рода 17 июля 1846 года в украинском городе Малин, на Житомирщине.
Во времена Богдана Хмельницкого его прадед, шотландский рыцарь Майкл МакЛей, ставший казаком в Запорожской Сечи, женился на дочери куренного атамана Охрима Макухи (Миклухи).
Этот самый Охрим был знаменит в Украине: вместе с сыновьями Омельком, Назаром и Хомой воевал против Речи Посполитой...
Сын его, Назар, самым разнесчастным образом влюбился в польскую панночку древнего дворянского рода и переметнулся ради этой любви на сторону врага.
Братья его как-то ночью пробрались в крепость, чтобы выкрасть Назара, но наткнулись на польских стражников. Младший, Хома, велел брату Омельку доставить предателя к отцу, а сам бился до смерти, задерживая погоню. Охрим своею властью отца и куренного атамана убил предателя-сына...
Ничего не напоминает, нет?
Правильно. Именно этот эпизод, превратившийся в Украине в устную легенду, стал основой повести Гоголя «Тарас Бульба» — повести, которую Николай Миклухо-Маклай всегда возил с собой во все путешествия.
Так же, как и украинскую вышиванку.
Отец его был уже, скажем так, не столь воинственен, как предок: выпускник нежинского лицея, он занимал пост начальника петербургской железной дороги.
Он тоже не оставлял своего украинства – в частности, по свидетельствам современников, свободно цитировал стихи Тараса Шевченка, причём поддерживал ссыльного Кобзаря словом и делом: однажды выслал Тарасу Григорьевичу в Орск 150 рублей (это была половина его годового жалования!), за что был с позором уволен с работы и должен был отправиться под суд, но… умер от туберкулёза в 40-летнем возрасте, оставив вдову и пятерых детей...
Мать Миклухо-Маклая происходит из польско-немецкой семьи Беккеров, состоявших в родстве с Гёте и Адамом Мицкевичем...
Болезненный трёхлетний Николка, поражённый смертью отца, стал заикаться. Впрочем, слабое здоровье не помешало ему получить образование, поступив в Петербургский университет (могли помешать происхождение и «неблагонадёжный» отец – но парень пробил эту стену своим талантом), однако в 1864 году он был отчислен оттуда за участие в студенческих волнениях – без права поступления в любой другой ВУЗ России.
И никогда бы он не получил разрешения на выезд за границу, если бы не роман с одной из царских фрейлин, на которую сам государь император успел также «положить глаз». Маклая попросту вышвырнули из России, чтоб не мозолил глаза августейшему сопернику...
Это и дало ему возможность получить образование за рубежом: Гейдельберг, Лейпциг, Йена… Он был ассистентом известного естествоиспытателя Эрнста Геккеля, а в 1866-67 гг. посетил Канарские острова и Марокко, три весенних месяца 1869 года провёл на побережье Красного моря. Первые наблюдения учёного касались зоологии, потом – географии, антропологии и этнографии.
Начиная с 1870, начались одиссеи великого путешественника: Новая Гвинея, острова Меланезии и Микронезии, полуостров Малакка, Австралия…
В 1880 году «путешественник в вышиванке» основал австралийскую биологическую научную станцию. Именно он является автором проекта создания на Новой Гвинее независимого государства – Папуасского Союза.
Позже Миклухо-Маклай безуспешно добивался от царского правительства разрешения организовать на Новой Гвинее "свободную российскую колонию".

Через десять лет Маклай вернулся в Европу, читал лекции в Лондоне, Берлине, Париже. Приехал на родину и занялся исследованием фауны Чёрного моря и южного берега Крыма.
И по-прежнему «мозолил глаза» правительству – теперь уже не любовными похождениями, а своей приверженностью Украине, к своему украинскому происхождению и украинскому языку.
Двадцатью годами ранее была предпринята очередная, весьма масштабная попытка подавления всего украинского: был издан так называемый «Валуевский циркуляр», прямо запрещавший литературу, театр, образование на украинском языке, объявлявший «малороссийское наречие» не существующим в природе.
Действие этого циркуляра весьма ощущалось и при жизни Миклухо-Маклая, так что он, как мог, вступался за родной язык, писал письма то Бисмарку, то царю Александру III, с которым даже встретился в Гатчине в ноябре 1882 года...
В 1883 он получил разрешение царя на женитьбу и, вернувшись в Сидней, вступил в брак с Маргарет-Эммой Робертсон – дочерью премьер-министра Нового Южного Уэльса.
Впрочем, жить он предпочёл не с ней, а с папуасами, среди которых провёл три года, изучая их быт и диалекты. В 1885 году выступал против немецкой аннексии Северо-Восточной Новой Гвинеи.
В сорокалетнем возрасте, с супругой и двумя сыновьями, Николай Миклухо-Маклай, вернувшись в Российскую империю, отправился в Санкт-Петербург, чтобы подготовить к печати свои труды. Дважды приезжал в Малин, в имение матери, где изучал быт и традиции жителей Полесья — полещуков, интересовался происхождением и историей их предшественников — древлян.
Пока он ездил к родным пенатам, в его дом в Санкт-Петербурге зачастил известный украинский этнограф Дмитро Яворницький, основатель краеведческого музея в Екатеринославе (нынешний Днепр). У него был огромный талант к выпрашиванию будущих музейных экспонатов – именно таким образом множество редкостей и диковинок перекочевали из квартиры Маклая на музейные витрины.
Не стоит на него обижаться: ведь иначе всё это, скорее всего, просто бы пропало.
Сегодня 12 внуков, правнуков и праправнуков Николая Миклухо-Маклая живут в Австралии… и всё равно считают себя украинцами, возглавляют Товарищество украинцев Австралии.
Старейшина этого рода – диктор австралийского общественного телевидения Роберт Миклухо-Маклай, ещё в советские времена (в 1980 и 1988 гг.) посещал Киев и, как сам рассказывает, тайно, ночью, за доллары, приезжал на такси в Малин, чтобы сфотографировать дом своего деда.
Роберт очень обижается, когда слышит о «великом русском путешественнике Миклухо-Маклае». Он всегда подчёркивает: да, его дед – великий путешественник. Но – украинский.
Впрочем, современным российским школьным учебникам и различным энциклопедиям это невдомёк. Там он по-прежнему русский...
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Суббота, 14.01.2023, 09:04 | Сообщение # 505 |
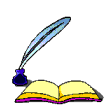 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 324
Статус: Offline
| немного о замечательном Человеке и неповторимом - от Б-га пианисте в воспоминаниях и интервью...
https://youtu.be/jcw4Ke7r0S0
|
| |
| |
| KBК | Дата: Среда, 25.01.2023, 10:10 | Сообщение # 506 |
 верный друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Статус: Offline
| Летописец замордованной страны
К 85-летию Владимира Высоцкого

Пока мы жили какой-никакой надеждой, пока казалось, что время идет вперед, — стихи Высоцкого были с нами по умолчанию. Они жили в нас, а мы жили в них
А что, правда не можете представить себе Высоцкого стариком? Почему-то, если человек ушёл молодым, принято говорить, что невозможно представить себе его старым. Как будто «старый» — это ругательство.
Высоцкого представить 80-летним проще, чем многих других, — он настолько мудр в своих песнях, что 80 лет ему даже пошли бы. Он стал бы седым и отпустил бороду, а морщин бы не было вовсе.
Был бы по-прежнему поджарым и складным, а хрипоты стало бы меньше, потому что пел бы чуть тише — всё-таки силы уже не те. Радовался бы перестройке, агитировал бы за Ельцина, но после первой чеченской разочаровался бы в нём и (как хочется надеяться!) плевался бы при слове «Путин»...
Одно хорошо несомненно: что Владимир Высоцкий не родился раньше, чем родился, — тогда бы он остался только на бумаге, в поэтических сборниках, в воспоминаниях и в скудных трескучих записях. И, скорее всего, наша жизнь сложилась бы иначе. Мы бы читали его стихи, как читают любые другие стихи, и не знали бы, как они звучат под аккорды в хриплом темпераментном исполнении. Не факт, что мы бы так уж полюбили эти стихи.
Чем дальше уходит в вечность Высоцкий, тем удивительным образом становится ближе — связь не только не теряется, но и крепчает. Он был Пророк — вот такой совсем не похожий на пророка, современный, в джинсах, неправильный человек, пьющий, курящий. Он даже умер в неправильный момент — в Москве шла чёртова Олимпиада, по городу шастали толпы иностранцев, и похороны Поэта попытались превратить в позорное полуподпольное действо. На Таганке, вокруг неё и потом — на Ваганькове и рядом рыдали тысячи и тысячи людей, а власти упорно делали вид, что ничего не случилось. Высоцкий лежал в гробу спокойный и немного насмешливый. Казалось, что он сейчас подмигнет и скажет: «Я же всё это знал и вам говорил».
Сообщение отредактировал KBК - Среда, 25.01.2023, 10:34 |
| |
| |
| Пинечка | Дата: Четверг, 02.02.2023, 10:59 | Сообщение # 507 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1460
Статус: Offline
| Александр Городницкий
ВОЙНА
На время войны замолчи, поэт,
Так было всегда и днесь.
Война это быт, которого нет,
И жизнь, которая есть.
Ракета, означившая рассвет,
Плохую приносит весть.
Война это сон, которого нет,
И холод, который есть.
Поспешно на бруствер, комроты вслед,
В атаку не вздумай лезть.
Война это доблесть, которой нет,
И смерть, которая есть.
Уткнулся в землю лицом сосед,
Напрасных потерь не счесть.
Война это помощь, которой нет,
И подлость, которая есть.
Оставь в тылу как ненужный бред
Понятия "долг" и "честь", --
Война это стыд, которого нет,
И грязь, которая есть.
Не требуй ни званий, ни эполет,
На гвоздик ремень повесь.
Война это орден, которого нет,
И рана, которая есть.
Не слушай писак тыловую лесть
О подвигах славных лет.
Война -- костыли, которые есть,
И ноги, которых нет.
На склоне дней о цене побед
Статьи не стремись прочесть.
Война это правда, которой нет,
И ложь, которая есть.
=======================
а здесь можно ознакомиться с интервью семилетней давности, и узнать некоторые подробности жизни этого замечательного и талантливого человека:
https://www.svoboda.org/a/27051351.html
|
| |
| |
| Сонечка | Дата: Суббота, 11.02.2023, 08:44 | Сообщение # 508 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Статус: Offline
| Истории из библиотеки
В начале 1990‑х я работал в организации, которая занималась распространением культуры идиша и располагалась в старом здании в центре Тель‑Авива. Там же действовала библиотека на идише и чтобы попасть в библиотеку, нужно было пройти через комнату, в которой я работал.
Пожилые люди приходили туда менять книги. Иногда некоторые из них обращались ко мне: «У вас есть немного времени? Можно перемолвиться парой слов на идише?»
По глазам тех пожилых евреев было видно, насколько они истосковались по разговору на идише, как отрадно им было слышать собственный голос, произносящий слова на этом, самом родном для них языке. И не столь важна была тема беседы, главным было поговорить на идише и получить от этого немного удовольствия.
Тогда я услышал море историй. И каждая новая была более захватывающей, чем предыдущая.
В определённый момент мне стало казаться, что эти хлебнувшие жизни люди сами по себе — уникальная живая, дышащая библиотека. Каждый из них — открытая книга, которую лишь сама судьба была способна написать.
Некоторые из тех евреев и их рассказы буквально врезались в мою память и время от времени продолжают будоражить моё воображение.
Зачастую я спрашивал себя: «Что общего в их жизненных историях? Какие тайны они раскрывают и что остается всё ещё скрытым? Что можно из них почерпнуть?»
Иногда на ум приходили строки из сонета Ицика Мангера:
Старики в синагоге
Разобраться пытаются в Б‑ге,
Гладят бороды, морщат лбы:
— Мы ищем Тебя ещё с детской поры,
Мы славим Тебя, каждый день не забыт,
Но Ты всё ещё скрыт.
Очень хотелось разгадать эту загадку, но каким‑то странным образом слово «сод» (тайна) — переплелось и соединилось в моём сознании со словом «нэс» (чудо).
Почти каждый из тех пожилых людей был уцелевшим в Холокосте. И тот факт, что после всех выпавших на их долю испытаний они выстояли и нашли в себе душевные силы продолжать жить дальше, уже был чудом, а не чем‑то самим собой разумеющимся.
Но кроме этого общего, объединяющего чуда каждый из них располагал своим собственным, личным чудом, нередко выглядевшим странным, находившимся в буквальном смысле на стыке реального и невероятного.
* * *
Иногда приезжал в библиотеку скромный, интеллигентный человек из Гиватаима. Звали его Йеуда. Все годы своей жизни в Израиле он проработал учителем, некоторое время был директором школы.
Родился он в маленьком местечке в Галиции, на берегу Днестра, где‑то в районе города Коломыя.
Йеуда рассказал мне, что насобирал огромную коллекцию петухов: картины, фигурки, статуэтки всевозможных цветов из дерева, фарфора, стекла, различных сортов камня. Сам он на протяжении всей жизни тоже рисовал петухов. Каждый уголок в его доме был полон этими изображениями.
Однажды в беседе он открыл мне загадку своего странного увлечения.
В июне 1941 года Йеуда окончил первый курс Львовского пединститута, за несколько дней до нападения нацистской Германии на Советский Союз. На летние каникулы он вернулся в родное местечко...
В начале июля нацисты оккупировали эти места. После страшных месяцев мытарств и жутких тягот в гетто и трудовом лагере среди еврейских жителей местечка провели селекцию: их разделили на несколько групп и затолкали в огромные амбары.
С этого момента Йеуда больше не видел ни своих родителей, ни других родственников. Целые сутки простояли сотни мужчин в амбаре, спрессованные, как селёдки в бочке. На следующий день их вывели и погнали в сторону железнодорожной станции. Там уже было огромное количество евреев из окрестных местечек. По всей округе слышались звуки стрельбы, плач, душераздирающие крики евреев, ругань немцев и местных полицаев, лай собак, в самом диком созвучии и адском переплетении.
Тысячи евреев погрузили в товарные вагоны. Йеуда и пара его друзей поняли, где находится конечная цель этого поезда. Шло лето 1942 года, и к тому времени ангел смерти уже широко распростёр над галицийским еврейством кровавое слово «Белжец» .
В вагоне царило обречённое молчание. Большинство евреев были душевно измождены. Они ни на что не реагировали, у них почти не было сил на разговоры друг с другом.
Йеуда с друзьями приметили небольшое окошко, закрытое металлической решёткой. Вопреки всем сомнениям они решились выломать решетку и попытаться выпрыгнуть из вагона через узкое окошко. Они напрягли остатки сил, сумели вытолкнуть решетку и один за другим выскочили из поезда на полной скорости. Был поздний вечер, ночная тьма поглотила их и укрыла своим чёрным покрывалом.
На рассвете Йеуда обнаружил себя лежащим посреди кукурузного поля, недалеко от железнодорожной линии, в полном забытьи. Он был ранен, окровавлен, практически на последнем издыхании...
Вдруг рядом с собой он услышал кукареканье петуха. Голос его был настолько близок и отчётлив, что вернул его к осознанию реальности. Еле живой парень понял, что петух находится где‑то совсем близко от него. Йеуда ощутил, что его лицо полностью опухло, и было невозможно открыть глаза. Но петух продолжал кукарекать. Несчастному казалось, что голос петуха стал более сильным, громким, даже нервным...
В определённый момент петух уже не кукарекал, а неистово орал. Этот крик буквально вынудил парня с огромным усилием приоткрыть глаза и осознать, что наступило утро и нужно направляться в сторону леса, иначе в поле придут селяне и наверняка сдадут его полицаям.
С тех пор в Йеуде поселилось убеждение, что тот петух спас ему жизнь. Он часто видел в своих снах этого ангела‑спасителя в образе петуха, который кукарекал над ним, пока он не открыл глаза.
Йеуда так и написал в своём стихотворении:
В детские годы
Дрожащими руками переносил я на тебя
Мои грехи.
Но в этот раз, петух, ты — не искупление мое,
Ты — избавитель мой.
Спас меня от горькой смерти, ангел‑хранитель мой.
Своим голосом ты отвратил
Казнь от меня.
Крича изо всех сил,
Ты к жизни пробудил меня.
* * *
Ханан был одним из «молодых» посетителей идиш‑библиотеки. Живчик лет около шестидесяти со смешливым лицом, всегда в хорошем настроении, любил шутить, не брезговал резким словцом.
Однажды, придя в библиотеку, он принёс с собой пакет, осторожно развернул жёлтую обёрточную бумагу и показал мне содержимое. Я увидел кнут, сплетённый из толстых полос кожи, с деревянной ручкой, на которой были выцарапаны две буквы — алеф и мем (А М).
«Видишь этот кнут? — спросил меня Ханан, на этот раз с серьёзным лицом, а не в обычной для него шутливой манере. — Это самая дорогая вещь из всего, что у меня есть. Если бы мне за него предложили все богатства мира, я не расстался бы с ним. Благодаря этому кнуту жива сегодня моя семья, которая состоит из трёх братьев с жёнами, детьми, внуками, — целое племя, насчитывающее, не сглазить бы, около пятидесяти человек. Кнут всегда выставлен у меня в буфете, на самом почётном месте в моём доме».
Ханан, видимо, разглядел, насколько я был удивлён, и без промедления принялся рассказывать историю своей семьи.
«Моего отца звали Шмуэль. Он родился в бедной хасидской семье в галицком местечке. Когда‑то это была Польша, сегодня — Украина. Ты ведь знаешь историю этих мест…» — так он начал свой рассказ.
К тринадцати годам Шмуэль, отец Ханана, остался круглым сиротой. В то время в бедных еврейских местечках люди вели себя несколько иначе по сравнению с сегодняшними нравами. Старая пословица гласит: «Среди евреев не пропадешь»...
Бедного сироту не бросили на произвол судьбы. Его взяли в бейс‑мидреш, разрешили там спать, кормили. Он, в свою очередь, был крепким, здоровым парнем и помогал старому шамесу: носил воду, колол дрова, выполнял разные работы. Но каждую свободную минуту он садился в уголочке и прислушивался, как ребе учит Тору со своими хасидами. Он старался запомнить каждое слово, которое исходило из уст ребе, чувствуя огромное уважение к нему и интерес к хасидизму.
Шмуэль никому не мешал, был тихим мальчиком, делал свою работу, и мало кто оглядывался на бедного сироту.
Так прошло несколько лет. Однажды при изучении Торы ребе задал трудный вопрос, но никто из хасидов не знал ответа, только Шмуэль набрался смелости и ответил из своего уголка.
Удивлённый ребе стал его экзаменовать, и вдруг оказалось, что этот тихий парень‑сирота — находка, настоящий знаток. Тогда ребе достал тот самый кнут с двумя выцарапанными буквами, являющимися инициалами его собственного имени, протянул Шмуэлю и сказал: «Возьми, парень, этот кнут. Он принесёт тебе благословение и будет всегда выталкивать к жизни».
Эта история быстро разнеслась среди хасидов ребе.
С тех пор к молодому Шмуэлю стали проявлять уважение и при каждой возможности просили потрогать ручку кнута с инициалами ребе.
При упоминании об этом Ханан нежно прошёлся пальцами по всей длине кнута и заметил: «Кнут был намного длиннее. За долгие годы он просто ссохся, думаю, от него половина осталась. Ведь этой истории уже почти семьдесят лет. И можешь верить или нет, но благодаря этому кнуту мой отец поднялся.
Ведь он привык вкалывать с раннего детства. Сначала он работал кучером на кого‑то, потом скопил денег, купил лошаденку и сам стал балигулой, а позже торговал лошадьми.
В те годы о нём говорили: счастье ему подфартило, всё у него идёт как по маслу. Он женился на приличной девушке, построил красивый дом, у него родились три сына, я — самый младший...
Но таково уж еврейское счастье: даже если жизнь тебе улыбнулась и позволила лизнуть немного мёда, всё не может пройти гладко, и в бочку мёда обязательно должна попасть ложка дегтя…» — Ханан горьковато улыбнулся.
В 1939 году Советы «освободили» Восточную Галицию, и местечко Шмуэля тоже не избежало этой участи.
В один из первых дней после так называемого советского освобождения Шмуэль вернулся домой с работы и увидел свою жену заплаканной. С тремя детьми она сидела на узлах около дома.
Захлебываясь от слёз и горя, женщина рассказала, что какой‑то офицер НКВД «положил глаз» на их дом. Он принёс документ на русском языке с печатью и заявил, что их дом экспроприируется в пользу советской власти и у них есть час, чтобы собрать пожитки и убраться.
Услышав эту горькую весть, Шмуэль ворвался в дом, несмотря на то, что испуганная жена всеми силами, обливаясь слезами, пыталась удержать его. Увидев энкаведешника, он начал хлестать его тем самым кнутом до крови. Если бы советские военные не услышали гвалт, не вошли и не скрутили Шмуэлю руки, он бы успел добить обидчика. Тот, в свою очередь, жутко обозлился и немедленно приказал выслать Шмуэля и всю его семью в Сибирь.
«Сейчас ты уже понимаешь, — Ханан подмигнул мне, не переставая поглаживать рукоятку, — каким образом вот этот кнут нас вытолкнул к жизни, как и пророчествовал ребе?
Если бы мой отец не исполосовал на ремни офицера НКВД, вся наша семья осталась бы в местечке и разделила судьбу оставшихся там евреев. Ведь из них не уцелел никто».
Ханан остановился, на мгновение задумался и продолжил: «Около месяца мы поездами тащились в Сибирь. Я мало что помню из того времени, был слишком мал, но знаю всё это из рассказов, которые многократно слышал в семье. Нас привезли в Алтайский край. Там на допросе отца спросили, что он умеет делать, кто по профессии? На что тот ответил: “Я конюх, извозчик, умею погонять лошадей”, — и при этом показал свой кнут…
И вновь кнут вытолкнул нас к жизни.
Мы были направлены в колхоз на Алтае, в далёкую заброшенную деревню. И отец действительно там работал конюхом, мать готовила для тамошних рабочих. Когда в крупных городах люди пухли от голода, умирали, как мухи, мы там, в деревне, были сыты, насколько это вообще было возможно в тех условиях. По крайней мере хлеб с картошкой и пара луковиц у нас были...
В 1946 году нам, как бывшим гражданам, разрешили вернуться в Польшу. Там, кстати, я три года учился в еврейской школе и с тех пор влюблён в литературу на идише.
Но при первой же возможности мы уехали в Израиль. Осенью 1954 года прибыли кораблем в хайфский порт, откуда нас послали в только что созданную маабару, в Кирьят‑Гат. Условия там были жуткие. Я не должен тебе рассказывать, наверное, ты читал об этом. Вокруг пустыня, в буквальном смысле — ничего, жизнь в палатках. И здесь снова пришёл на помощь кнут.
В один из дней, взяв его, отец сказал: “Я еду в Тель‑Авив, мне нужно кое с кем повидаться”.
Мы были в недоумении, ибо ни родственников, ни знакомых у нас там не было. Все погибли в местечке в Галиции.
Позже оказалось, что отец поехал в Тель‑Авив, чтобы выяснить, нет ли там кого‑либо из хасидов того самого ребе, который благословил его.
И он нашёл‑таки небольшую синагогу, где собиралась пара миньянов хасидов, каждый из которых каким‑то чудом уцелел и спасся. Отец пришёл туда, рассказал им свою историю и в доказательство того, что говорит чистую правду, показал кнут с выцарапанными на ручке инициалами ребе.
В той синагоге хорошо знали историю про кнут. Хасиды очень воодушевились, они восприняли отца как живую весть от ребе, ниспосланную им с небес. Ведь их ребе вместе со всем своим двором тоже взошёл на кидуш а‑Шем...
Они назначили отца служителем синагоги, а к ней был пристроен маленький домишко, где мы и жили в первое время. Таким образом мы перебрались в Тель‑Авив. И в той хасидской синагоге мой отец прослужил до последнего своего дня. Он скончался пятнадцать лет назад. Лёжа на смертном одре, перед тем как испустить дух, он буквально прошептал мне на ухо: «Береги кнут. Он выталкивает к жизни».
* * *
Когда я впервые увидел Давида, то проникся к нему чувством жалости. Еврей в почтенном возрасте, далеко за восемьдесят, хромал на левую ногу, тяжело опираясь на палку. Ему приходилось совсем нелегко подниматься на второй этаж, где находилась библиотека.
Когда я увидел его во второй раз, то предложил ему впредь окликать меня снизу, я с удовольствием спущу нужные ему книги. Либо чтобы он предварительно позвонил, и я привезу их прямо ему домой.
Он жил в Рамат‑Гане, а мне это было по дороге. На это моё предложение он ответил: «Я очень благодарен тебе за готовность помочь, но прийти самому в еврейскую библиотеку — это почти единственное удовольствие, которое у меня осталось. Запах старых книг для меня дороже любого парфюма, ведь здесь особый микроклимат. Пожелтевшие книги в этих стенах напоминают мне старый дом, прошлую еврейскую жизнь, которой больше нет…»
Слушая Давида, я буквально был заворожён его идишем. В моих ушах он звучал настолько по‑родному, по‑домашнему, что я почувствовал некий языковой экстаз. Позже я понял, почему был так опьянён, слушая его речь. Он был из Бердичева, одного из любимейших мною мест на Земле, города, в котором я провёл свое раннее детство.
Этот человек меня особенно заинтересовал.
Слушать его было нечто большее, чем просто внимать интересному рассказу. Его воспоминания о Бердичеве побудили меня услышать эхо собственной родословной, нащупать невидимую нить поколений моей семьи.
Сам образ Давида только усиливал это ощущение. Высокий, стройный старик, поистине из гущи народной, с глубоко посаженными глазами, которые излучали невероятное количество добра и света. Получив новые книги, он присаживался в комнате, где я работал, и пролистывал их. При этом он улыбался от удовольствия, спеша ощутить вкус чтения новой книги, будто лакомился ею.
«Я не учился ни в каком университете, — сказал он мне однажды. — В моё время тот, кто не имел возможности учиться, становился самоучкой. В годы моей молодости центральным местом в нашей жизни была библиотека. После трудового дня еврейская рабочая молодёжь, парни и девушки, сходились там. Читали, обсуждали, спорили, влюблялись…
Как только поступала новая книга, тут же составляли лист ожидания, и каждый получал её не больше чем на неделю. Э‑э‑э… Когда‑то мы действительно были народом книги…» — вздохнул Давид и, кажется неожиданно для себя самого, стал рассказывать историю своей жизни:
«Моя семья жила в Бердичеве на протяжении нескольких поколений. Каждый камень там знает меня, — с гордостью говорил он, — хотя особой родословной я не отличаюсь. Я родился на знаменитых Писках в семье сапожника. Мы были одной из тысяч бедных семей, которые там жили. Не зря ведь и Менделе Мойхер‑Сфорим, и Шолом‑Алейхем описывали бердичевские Писки, когда хотели отобразить жизнь еврейской бедноты.
На моё детство и юность пришёлся весь “компот” с революцией, погромами, гайдамаками, Гражданской войной. Всё это немало будоражило моё юное сознание. Я стремился найти правду, равенство и братство между людьми, чтобы они перестали издеваться друг над другом, унижать и пить кровь один из другого.
Именно поэтому коммунистические лозунги звучали в моих ушах очень привлекательно. То, что Ленин, а потом и Сталин проповедовали, было для меня свято. Я наивно верил, что большевики принесут избавление в этот мир, поскольку они и есть Мошиах, только красного цвета».
Давид говорил не спеша, время от времени делал паузы, стараясь отдышаться: «Отец обучил меня сапожному ремеслу, чтобы дать профессию в руки, которой я мог бы заработать себе на кусок хлеба. Так было принято когда‑то в бедных семьях.
Но советская власть требовала чего‑то другого, и в возрасте шестнадцати лет я пошёл работать на фабрику. Работал много и тяжело, веря, что тем самым я приближаю коммунизм. В середине тридцатых я вступил в партию, женился, у меня родилась девочка. Тогда это называлось “жить прилично”.
В первые дни войны я успел эвакуировать жену и ребёнка в район Ростова, веря, что немцы туда не дойдут. Но, увы, там они и погибли…»
Лицо Давида покраснело, в его глазах блестели слёзы. Он хотел ещё что‑то сказать, но спохватился и после паузы продолжил:
«Меня мобилизовали на фронт, и я прошёл всю войну до последнего дня, несколько раз был ранен. Левая нога хромает после ранения в 1945 году.
Когда я вернулся с фронта домой, вместо города увидел груду камней. Сердце истекало кровью от тоски по жене и дочери. Боль за них была до такой степени невыносимой, что я буквально потерял волю к жизни. Но, как говорится, если Б‑г продлевает годы, то нужно тянуть лямку.
Мой знакомый по партийной организации, который хорошо знал меня ещё до войны, стал большой шишкой среди районного начальства. Он предложил мне стать директором райзаготскота, конторы, по делам которой я должен был разъезжать по сёлам, скупать у селян коров, коз, овец, птицу и развозить всё это по колхозам.
Я, кстати, неплохо разбирался в тех вещах и начал работать. Каждое утро за мной приезжала бричка с извозчиком. Начальство меня ценило. Позже я сошёлся с женщиной, муж которой погиб на фронте, у неё была дочь. Я переехал жить к ним. В те годы в городе мне многие завидовали, приговаривая: “Давид сделал успех”.
Но настал жуткий 1952 год. В Москве расстреляли еврейских писателей, антисемитизм бушевал на каждом шагу. После той страшной Катастрофы мы должны были пройти ещё и через это.
Евреи ходили с опущенными головами. Те, кто только вчера были добрыми друзьями, стали избегать встреч, отворачивались. Тогда я хорошо выучил правило о том, что ни на кого нельзя полагаться. Вчерашние друзья в мгновение ока становились врагами. Ни за что ни про что…
У нас была общая кухня с соседкой — украинкой Надей. Все годы мы жили с ней, как родственники, секретов друг от друга не имели. Двери комнат были всегда распахнуты. Её дети кормились у нас. Но когда началось “дело врачей”, а радио с утра до ночи трубило про “героический” поступок Лидии Тимашук, наша соседка вдруг стала бегать по квартире и с пеной у рта истерично вопить: “Як же може бути інакше, якщо жидів у Кремль запустили?”
И я, фронтовик, который каждый день смотрел смерти в лицо, вынужден был опустить голову и молчать…
В начале лета 1952 года, до того как разгорелось “дело врачей”, меня вызвал к себе первый секретарь райкома. Он хорошо знал меня и всегда относился с уважением, но вдруг совершенно неожиданно сказал: “Товарищ Ярошевский, показатели вашей работы оказались не только лучшими в нашей Житомирской области, но и одними из самых высоких во всей Украинской республике. Райком партии единогласно постановил представить вашу кандидатуру министерству в Киеве на награждение медалью “За трудовое отличие”...
Честно говоря, я не слишком обрадовался этому известию, какое‑то внутреннее чувство заставило меня беспокоиться. Интуиция подсказывала, что в такое время было бы здоровее без их медалей и без всего этого тарарама. И началось длительное ожидание. Из Киева не отвечали ни да, ни нет…
Через полгода, уже в 1953 году, из министерства пришло указание — вместо награды уволить меня с работы. Когда секретарь райкома сообщил мне об этом, он опустил голову, не имея смелости поднять глаза.
Не ожидая такого удара, я буквально впал в истерику. Вообще‑то я не из плаксивых, но когда вернулся домой из райкома, слёзы сами лились, не прекращаясь, пока я не приложился к бутылке, чтобы хоть как‑то забыть эту обиду.
Моя жена всеми силами пыталась меня взбодрить, но ничего не помогало, удар был слишком тяжёлым.
Прошло несколько дней после моего увольнения, и я получил повестку. Меня вызывали “туда”, то есть в МГБ, будь оно проклято! — при этом Давид на мгновение саркастически улыбнулся. — Прихожу я туда в костюме, обвешанном военными орденами и медалями, и вижу: напротив меня сидит жлоб, встреть которого я на улице, тут же перешёл бы на противоположную сторону. И говорит он мне следующее: “В принципе у меня к вам единственный вопрос: почему вы носите нееврейскую фамилию?”
Ты слышишь??? Ни больше и ни меньше!!!
Я был ошарашен, ожидал всего, но не такого идиотского вопроса. Вначале я подумал, что он шутит, но, взглянув на его морду, понял, что он вполне серьёзен. И я ему ответил: “Фамилию я получил в наследство от моего отца, а он — от своего. Оба похоронены на здешнем бердичевском кладбище. Я могу вам показать могилы, выкопайте их и задайте им этот вопрос. Больше мне нечего вам ответить”.
Меня продержали там шесть часов, но выпустили, с ухмылкой: “Пока вы можете быть свободны…”
Придя домой, я застал мою жену, опухшую от слёз. Она была уверена, что больше мы уже не увидимся. А я был настолько подавлен, что… решил свести счёты с жизнью. Я сам спрашивал себя: “После всего пережитого я должен пройти ещё и эти унижения? Я должен стесняться выйти на улицу? Или сидеть в квартире и беспрестанно слышать антисемитскую ругань соседки? После такого почёта и уважения, какие у меня были в городе, — ходить с опущенными глазами и искать хоть какой‑то заработок? Ждать, чтобы кто‑то сжалился надо мной? В чём я провинился?..”
Внутренняя обида и стыд разрывали меня на куски, и я однозначно решил, что жизнь потеряла всякий смысл и незачем больше тянуть эту лямку.
Я пошёл спать с твердым решением, что завтра покончу со всем этим. Нужно только подумать, как сделать это легче для себя и не слишком навредить моей второй семье, которую я оставляю.
И вот мне снится моя погибшая от немцев дочурка. Я вижу её очень отчётливо. Она машет мне ручкой и говорит: “Папа, нельзя тебе этого делать. Приди и отыщи меня…”
Этот сон меня огорошил. Я встал утром и сказал жене, что должен уехать на время, чтобы не лишиться рассудка. Я действительно уехал в Ростовскую область, туда, где погибли моя первая жена и дочь, отыскал братскую могилу, выплакал там всю мою душу, потом временно устроился в заброшенной станице, без всякой регистрации. Там я работал, пережидая это тяжелое время...
Через пару дней после моего отъезда из Бердичева ночью в нашу квартиру нагрянули, чтобы меня арестовать. Если бы не тот сон, который выгнал меня вовремя из дома, я бы, скорее всего, сейчас не разговаривал с тобой. Моё святое дитя пришло во сне и спасло меня.
Только когда усатый бандит сдох и открылся весь блеф вокруг “дела врачей”, можно было свободнее вздохнуть. Примерно через полгода я вернулся домой. Меня восстановили на прежней должности, на которой я и проработал до выхода на пенсию».
Давид задумался на мгновение, посмотрев куда‑то вдаль затуманенным взглядом, потом качнул головой и сказал: «Ну что я уселся здесь и, как тётка, рассказываю мансы? У меня ведь есть целое сокровище — столько чтива! Надо идти домой и взяться за книгу».
* * *
С тех пор как я услышал эти истории, прошло почти тридцать лет. Но они глубоко засели в моей памяти.
Каждый раз они ставят передо мной острые вопросы о круговерти еврейских судеб, о чудесах, которые сопровождают жизнь каждого из нас, и о том, что каждый ищет этим чудесам другое название. Один называет это случаем, другой — судьбой, а третий — Б‑гом.
Название не столь важно.
Но всё чаще приходит на ум мысль, что даже если еврей хочет быть самым что ни на есть светским человеком, всё равно в том затаённом уголке своей души он всегда будет искать Б‑га.
Как же верно писал в своем стихотворении об этом Аарон Цейтлин:
…Быть евреем означает — вечно бежать к Б‑гу,
Даже если ты убегаешь от Него…
…Быть евреем означает — не уметь отойти от Б‑га,
Даже если хочешь этого,
Не уметь перестать молиться,
Даже по окончании всех молитв…
Мордехай Юшковский.
Перевод с идиша его же, ноябрь 2020
Сообщение отредактировал Сонечка - Суббота, 11.02.2023, 09:26 |
| |
| |
| Златалина | Дата: Среда, 08.03.2023, 10:48 | Сообщение # 509 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Статус: Offline
| Выдающийся израильский актёр, лауреат Премии Израиля, двукратный обладатель "Золотого глобуса" Хаим Тополь скончался в возрасте 87 лет в Тель-Авиве.
Он был единственным израильским актёром, номинированным на "Оскар".
Хаим Тополь снялся в десятках фильмов в Израиле и США.
Среди самых известных его работ - "Скрипач на крыше", "Салах Шабати".
Родился Хаим Тополь в Тель-Авиве, детство его прошло на Флорентине, где его воспитательницей в детсаду была Ямима Авидар-Черновиц - известная детская писательница и лауреат Премии Израиля.
Это сегодня там израильская богема эпатирует саму себя, изображая близость к народу. А в 1940-х на Флорентине обреталась городская голытьба. Его отец Яаков был членом подпольной организации «Эцель», и от него Хаим Тополь унаследовал правые политические взгляды, которым остался верен всю жизнь. Для мира израильского искусства это явление довольно редкое: из всех актеров, которых мне довелось знать, таких же взглядов придерживался разве что замечательный комик Сефи Ривлин – тоже, увы, покойный.
Долгое время все в жизни Тополя было обычным. Подростком он из чистого любопытства пришел в самодеятельный театр, втянулся и после призыва попал в армейский ансамбль. Демобилизовавшись, вместе с будущим великим актером и режиссером, а потом ультраортодоксальным раввином Ури Зоаром создал Хайфский театр.
К 25 годам Тополь стал сниматься в кино. В 1964-м ему досталась главная роль в культовом израильском фильме «Салах Шабати». Это принесло ему «Золотой глобус» за лучший дебют и мировую известность.
После грандиозного успеха с "Салахом Шабати" Хаима Тополя заметили в киномире и в 1966 году он впервые сыграл в англоязычном фильме "Отбросить огромную тень" вместе с Кирком Дугласом...
«В 1967 году, – рассказывал мне Тополь, – в Лондонском Королевском театре решили поставить мюзикл “Скрипач на крыше”. Стали искать актера на роль Тевье-молочника, и кто-то предложил пригласить на эту роль “того израильтянина, который играл Салаха Шабати”. Вот так и вышло, что в один из дней я получил приглашение на кастинг в Лондон.

Мне изначально было понятно, что из этого ничего не выйдет. Хотя бы потому, что английского я вообще не знал. Но я подумал: “А почему бы на халяву не смотаться в Лондон, раз уж они сами приглашают?!” И поехал. Явился на пробы, услышал свое имя. Подошел, а мне в ответ: “Простите, я вас не звала! Мне сейчас нужен тот израильтянин, который Салаха Шабати играл, пожилой такой…” “Так я его и играл!” – отвечаю я и вижу, как у всех вытягиваются лица».

Тополю было тогда 28 лет, и никто не мог поверить, что это он так точно сыграл 60-летнего. Но в итоге, конечно, его оставили играть. Несмотря на английский, который он за год репетиций все-таки выучил. Так в 1970-х годах Хаим Тополь стал одним из ведущих актеров Лондонского Королевского театра.

«Не скажу, чтобы мне в Англии очень уж нравилось, – признавался мне Тополь. – Но работать было интересно, да и платили прилично...
А потом ко мне в гримерку временно “подселили” уже не молодого английского актера. Какое-то время мы почти не общались, но однажды разговорились. Узнав, что я из Израиля и мой отец был членом еврейского подполья, он сказал: “Правда? А я до 1948 года служил в британской полиции в Палестине и ломал рёбра такому еврейскому дерьму, каким был твой отец!”
Кровь бросилась мне в голову после этих слов. “Если ты ломал рёбра моему отцу, то я тебе сейчас разобью твою антисемитскую морду!” – сказал я. И сдержал свое слово.
В общем, грянул грандиозный скандал, и хотя никто не требовал моего увольнения, я ушёл из Королевского театра и вернулся в Израиль»...
Тополь был среди основателей Хайфского театра, который начал работу в 1960 году. Спустя год он дебютирует в кино, сыграв Миху в драме Питера Фрая "Мне нравится Майк". Следующей его работой стало "Эльдорадо" Менахема Голана, где его партнёршей была Гила Альмагор.
После номинации на "Оскар" карьера Тополя получила дополнительный импульс. Он много снимается, создав образ доктора Ганса Заркова во "Флэш Гордоне", Милоса Коломбо в "Только для ваших глаз", Дмитрия Голднера в "Куини", профессора Макса Келада в "Непридуманных историях".
Хаим Тополь ещё раз сыграл Тевье-молочника, на этот раз в бродвейском спектакле "Скрипач". Роль в постановке принесла актёру номинацию на театральную премию "Тони"...
Вернувшись в Израиль, Тополь снялся в нескольких фильмах, сыграл в спектаклях театра "Гешер", занимался озвучкой фильмов. Среди прочего, его голос звучит в первых двух фильмах о Гарри Поттере. Он опубликовал две книги, в том числе автобиографическую "Хаим рассказывает о Тополе" (Chaim Topol on Topol), основал поселок (כפר נהר הירדן) для детей с тяжёлыми заболеваниями, а также ассоциацию помощи детям с особыми потребностями.

В последние годы Хаим Тополь страдал от болезни Альцгеймера.
Он умер в своем доме в окружении близких людей. О времени похорон пока информации нет.
У Хаима Тополя с супругой Галией Тополь трое детей - сын Омер и дочери Эди и Анат.
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Четверг, 06.04.2023, 13:03 | Сообщение # 510 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 683
Статус: Offline
| Его путь был предопределён: окончить университет, получить уважаемую профессию юриста, продолжить семейное дело, найти порядочную девушку из хорошей семьи, жениться, нарожать кучу детей, а до этого - жить с мамой.
Все его знакомые по еврейской линии жили с мамами - и в тридцать, и в сорок лет...
Леонард Коэн родился в канадском Монреале в 1934 году в обеспеченной еврейской семье, владевшей известным брендом готовой одежды.
Его отец, Натан Коэн, выходец из Польши, умер, когда Леонарду было девять лет. Мать, Маша Клоницкая, эмигрантка из Литвы, воспитывала Ленни и его сестру Лорку одна.

Леонард Коэн в детстве
Дедушка Леонарда был на весь мир знаменит своими толкованиями Торы. С ранних лет Коэн ходил в религиозную еврейскую школу и одно время даже подумывал о том, чтобы стать священником.
Все Коэны на свете происходят от Аарона, старшего брата пророка Моисея, это всем евреям известно...
Но вместо этого Ленни стал поэтом и после университета ушёл из дома. После каждой студенческой вечеринки именно Коэн уходил с самой красивой девушкой. Правда, и бросал он их тоже первым. Но на него редко были в обиде: он так красиво обставлял свои расставания и с большинством своих пассий поддерживал тёплые дружеские отношения.
Только Анна Шерман бросила его сама. Как давно это было! Монреаль, 1957 год, поэтические чтения... Анне хотелось семью, детей, к тому же она была старше его. А что он мог ей дать?
Коэн снимал меблированную комнату, ухаживал за Анной, много сочинял, много пил. "У меня прирождённый талант к выпивке! И в этом я с удовольствием практикуюсь", - говорил он.
Анна так его задела, что он посвящал ей стихи ещё пять лет после их расставания. Он писал ей, даже перебравшись из Канады в Грецию. Потом звал её переехать на маленький остров в Эгейском море, в небольшой, выбеленный солнцем дом, в котором они могли быть счастливы.
Но Анна ответила отказом: к тому времени она вышла замуж за успешного ресторатора.
После Анны у Коэна было множество женщин. Он всегда считался бабником и даже выпустил книгу "Смерть дамского угодника". Женщин он просто боготворил - искренне, а не затем, чтобы завоевать. Ему всегда казалось, что женщины сложнее, интереснее мужчин...
В Грецию Коэн попал случайно. Он жил тогда в Лондоне. Друзья сказали, что не будут брать с него плату за жильё, если он будет писать каждый день три страницы. Ленни согласился. С утра он стучал по клавишам "Оливетти" и сочинял автобиографический роман про еврейского подростка. Когда роман был закончен и отослан в издательство, Коэн вздохнул полной грудью.
Беспросветное серое лондонское небо, вечный дождь, люди с зонтами. Он присел в кафе, сняв мокрый плащ, и заказал вина. На противоположной стороне Ленни заметил странную вывеску."Банк Греции" - стилизованное изображение солнца на витрине, а внутри за стеклом - молодой клерк почему-то в солнцезащитных очках. Он был таким улыбчивым, загорелым и выглядел столь вызывающе, что Леонард, допив бокал, подошёл к нему и вместо приветствия произнёс:— Какая сейчас в Греции погода?— Там офигeнно! Весна, солнце, девушки! Не то что здесь.— Класс!
Коэн немедленно пошёл в авиакассы и взял билет в один конец.
Вечером он уже был в Афинах.
Дел у него не было никаких, в кармане лежали остатки правительственного гранта молодым поэтам, а вещи - вещей у него сроду не водилось.
Ленни направился на катере на Идру (Гидру) - небольшой остров, о котором слышал от своего приятеля. На острове жила его бабушка и друг уверял, что его прекрасно примут, как только он напишет бабуле письмо.
Бабушка никакого письма не получала и в довольно неприятных выражениях дала понять, что с евреями, которые мотаются по миру, пописывают стишки и не чтут традиций, она никаких дел не будет иметь.
Леонарду было уже все равно: он влюбился в этот остров.
На нём было триста церквей и ни одного автомобиля. Тишину нарушало пение птиц и рёв недовольных ослов, на которых передвигались жители острова.
На Идре был один генератор электричества, но даже им старались не пользоваться и непременно выключали вечером. Бар тоже был один. Коэн выпил пару рюмок анисовой водки узо и вскоре увидел, что к бару подтянулась компания. Здесь, на острове, была артистическая коммуна.
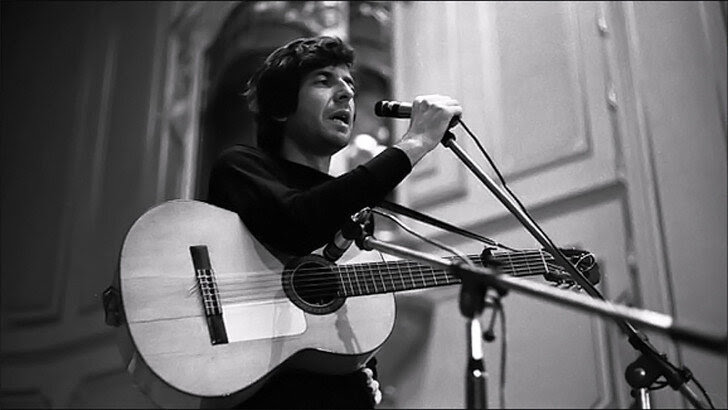
Леонард Коэн
Супружеская чета австралийских писателей, ирландский поэт, английский художник, норвежский прозаик, шведский поэт, журналист из Израиля, актёры, танцоры и даже один академик...
Кто-то снимал жилье на лето, кто-то приехал в гости.
Леонард нашел жильё за четырнадцать долларов в месяц. Это был трёхэтажный дом, построенный как минимум, двести лет назад. В нём не было электричества, отсутствовала канализация, но Коэна это не смущало.
Стол, кровать, пару стульев и две сковородки ему одолжили соседи, а больше ему ничего не было нужно. Утром он вставал, шёл на рынок за свежими фруктами и овощами, завтракал и кормил кошек - здесь почему-то их было немыслимое количество - и садился писать.
Затем купался, гулял и снова писал.
Если бы ему тогда кто-то сказал, что он застрянет на Идре на долгие семь лет, он бы не поверил. Он считал, что просто приехал на каникулы, погреться на солнце, пока не встретил её.
Леонард влюбился в остров с первого взгляда. По его словам, там "всё, что ты видел, было прекрасно - каждый уголок, каждый фонарь, всё, чего ты касался, всё".
То же самое случилось, когда он впервые увидел Марианну. В письме Ирвингу Лейтону он сообщал: "Марианна - само совершенство". Но об этом чуть позже.
Море... солнце... бело-голубые домишки... местное вино с запахом смолы... осьминоги на гриле... свежие сардины... всегда отличная погода - после промозглого Лондона и холодной снежной Канады. Это место показалось Коэну раем. И главное - что здесь было баснословно дёшево жить.
Дома на Идре освещались керосиновыми лампами и отапливались печками. Дискотека на острове проводилась так: музыку ставили на обычном виниловом проигрывателе, работавшем от батареек. Всё было так первобытно и можно было жить, не думая ни о чём.
Однако Коэн очень быстро понял, что тихая коммуна покоится на сплетнях, изменах и скоротечных романах. Здесь все обсуждали всех, здесь все спали со всеми. Наружу выползали самые неожиданные вещи.

Тихая заводь оказалась страшным болотом, где жены изменяли, мужья подглядывали, а жизнь была подчинена временам года. Романы заводились весной, вспыхивали летом и отгорали к осени. Зимой все возвращались к своим прежним половинкам, и так - до весны.
Леонард сам влип: он влюбился в 25-летнюю белокурую норвежку Марианну Ихлен, у которой был симпатичный маленький сынишка и муж - норвежский прозаик Аксель Йенсен.
Это был худой, серьезный человек, который в свои почти тридцать лет опубликовал уже три романа, по одному из которых сняли фильм. Местные сплетничали о том, что Аксель много пьёт, неверен жене и Марианна с ним несчастна.
Марианна была внучкой известного оперного певца, дочкой адвоката и окончила французский колледж...

Марианна Ихлен с Акселем и Леонард Коэн
Но прозаик увлёкся американской художницей Патрисией Амлин, собрал вещи и бросил Марианну с полугодовалым ребенком.
До замужества Марианна была моделью в Осло, работала и училась, жаждала самосовершенствования, а Коэн тихо любовался ею и посвящал стихи. Друзья описывали Марианну как невозмутимую, красивую, спокойную, милую, дружелюбную и открытую.
Хотя одно время она работала манекенщицей, Марианна никак не могла понять, почему Леонард называл её самой красивой женщиной, какую он когда-либо встречал. Он был очарован молодой женщиной с волосами цвета снега.
Девушка недоумевала.— Что он во мне нашёл? Худенькая, с маленькой грудью и слишком круглым лицом...
"Она была самой красивой женщиной, которую я видел в своей жизни, – говорил Стив Сэнфилд. – Я был поражён её красотой, и не я один. Она вся светилась, настоящая скандинавская богиня с маленьким светловолосым мальчиком, а Леонард был чернявый еврейский юноша. Это был сильный контраст".
Марианна пришла за покупками в местный магазинчик грека Кацикаса за молоком и бутилированной водой. Она стояла в очереди за пожилой гречанкой, и вдруг в дверном проёме возник мужчина:— Не хотите ли присоединиться к нам? Мы сидим во дворике.
Девушка пожала плечами и убрала от лица выгоревшую прядь волос. Она не могла толком разглядеть этого человека из-за солнца, светившего ему в спину, но у него был голос, который, по её словам, "не оставляет у тебя никаких сомнений в том, что он говорит. В нём была прямота и спокойствие, честность и серьёзность, но в то же время фантастическое чувство юмора".
Выйдя на улицу, Марианна увидела Коэна, сидящего за столиком вместе с друзьями. Он был одет в штаны цвета хаки и выцветшую рубашку, а на ногах у него были дешёвые коричневые спортивные туфли, которые в Греции продавали повсюду.
"Он выглядел как джентльмен, старомодно – но мы оба были старомодны", - вспоминала Марианна. Посмотрев ему в глаза, она поняла, что "встретила особенного человека".Они не сразу стали любовниками. "Хотя я влюбилась в него с первой же встречи, это было красивое, долгое кино", - говорила Марианна...
Леонард, Марианна и маленький Аксель встречались днём и ходили на пляж. Потом они шли обедать и отдыхать к Леонарду - так было ближе.
Пока Марианна и Аксель спали, Леонард сидел и любовался ими - дочерна загорелые тела, белые волосы. Иногда он читал ей свои стихи. Марианна была самым настоящим ангелом.
Когда её бывший муженёк со своей пассией укатил в Афины, Патрисия, будучи за рулём, попала в автоаварию: её выбросило из машины. Она получила множественные переломы костей таза и конечностей... и Аксель Йенсен истерично телеграфировал Марианне: "Приезжай, я больше не могу!"
Она, оставив сына с Леонардом, не раздумывая, отправилась в Афины и сменила бывшего мужа у постели Патрисии. Марианна находилась там, пока состояние Патрисии не стабилизировалось.
И только после этого вернулась.
Однажды в конце долгого, жаркого лета Леонард получил письмо, где сообщалось, что его бабушка умерла и оставила ему в наследство полторы тысячи долларов.
Он уже знал, что делать с деньгами: 27 сентября 1960 года, через несколько дней после своего двадцать шестого дня рождения, Леонард купил дом на вершине холма...
В октябре Марианна сказала Леонарду, что собирается в Осло - оформить развод. Леонард решил, что поедет с ней. Они на пароме добрались до Афин, взяли её машину, и Леонард отвёз их в Осло - три с лишним тысячи километров. По дороге они на несколько дней заехали в Париж...
Леонард пишет "чувство, которое, как мне кажется, я тысячу раз безуспешно пытался воссоздать: ты взрослый человек, с тобой вместе - прекрасная женщина, и ты счастлив быть с ней рядом, перед тобой лежит весь мир"...
Он писал, готовил еду, ухаживал за женщиной, которая ему нравилась. У них всех закрутилось, завертелось, они стали жить вместе на этом самом островке. Песня "So Long, Marianne" посвящена прекрасной норвежке.
И до и после Марианны у Леонарда были музы, но только ей удалось завладеть его сердцем. Она удостоились фотографии на конверте его пластинки, на обороте конверта его второго альбома Songs from a Room.
Марианна сидит за простым деревянным столом в комнате с белыми стенами; она положила руки на пишущую машинку Леонарда, повернула лицо к объективу и застенчиво улыбается, завернутая в белое полотенце.
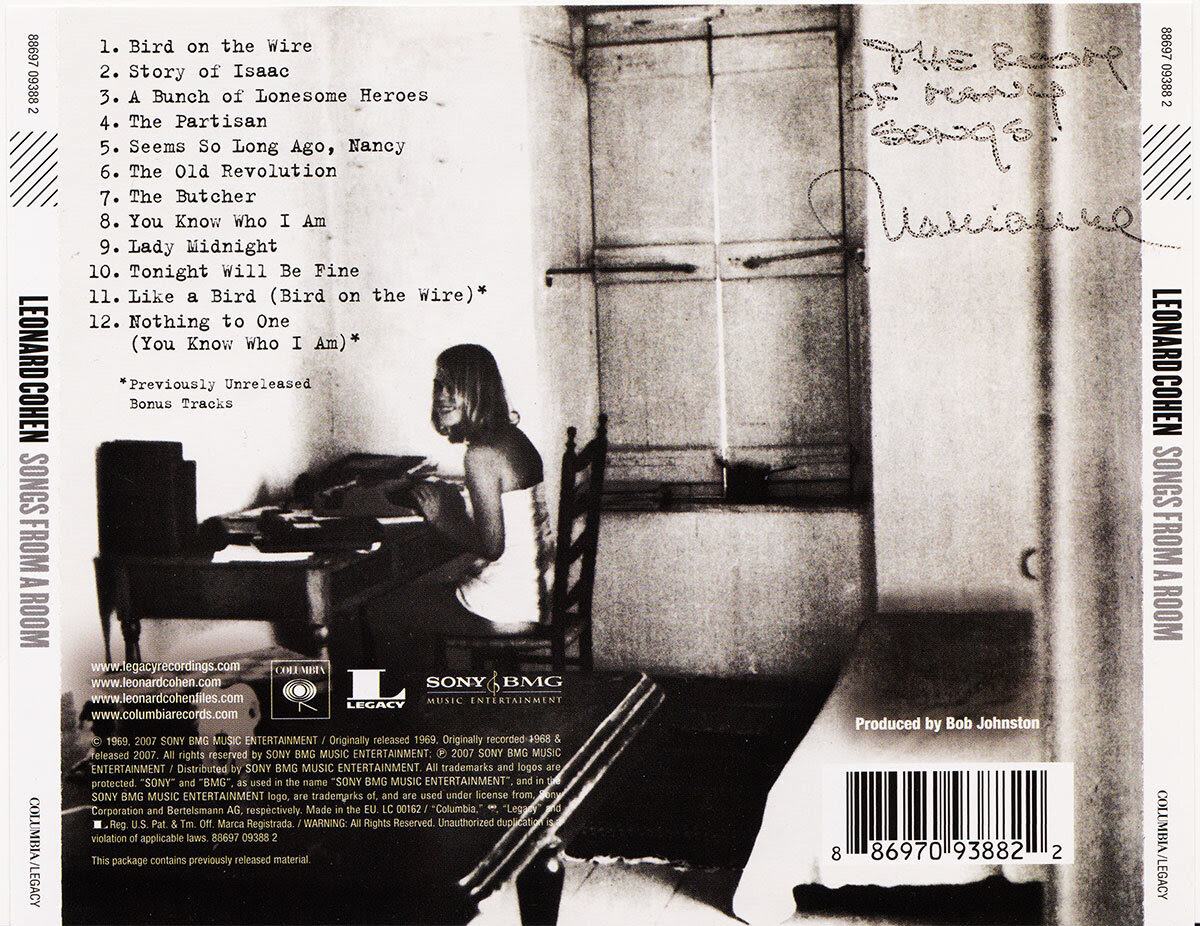
Обложка альбома с фотографией Марианны
Из Осло Леонард улетел в Монреаль. Жить на острове было дёшево, но, если он собирался там оставаться, нужны были деньги. Вернувшись в съёмную квартиру на Маунтин-стрит, он написал Марианне письмо, в котором рассказывал о своих планах. "Квартира есть. Не хватает только моей женщины и её ребенка..."Марианна тут же собрала чемодан прилетела к нему с сыном. В Монреале ей пришлось непросто. Хоть она и поладила с матерью Коэна, ей было здесь нечего делать - только присматривать за сыном."Да, он был дамским угодником, – говорила Марианна. – Я чувствовала, как во мне закипает ревность. Все хотели получить кусочек моего мужчины. Но он хотел жить со мной. Мне было не о чём волноваться".Это не значит, что Марианна не волновалась, но жаловаться было не в её привычках, и она любила
его. Но оказалось, что былого не вернуть: их объединял только остров. Идиллии пришёл конец. Леонард постепенно ускользал от неё, занятый множеством проектов.В Канаде Коэна назвали "голосом поколения" и получасовое его появление в телепередаче обеспечивало ему пару месяцев островной жизни. Он решил стать музыкантом и его песни становились хитами.Женщины, женщины... Медсестра из Кливленда, модель из Норфолка, поэтесса из Торонто, студентка колледжа, певица Джонни Митчелл, певица Нико, Дженнис Джоплин, актриса Ребекка де Морней...Его новая пассия Сюзанна Элрод, живущая в отеле "Челси" была хорошенькой брюнеткой и содержанкой богатого человека. Эта девушка решительно выгнала Марианну из дома Коэна и заняла её место. Марианна Илен простила своему Леонарду всё...Когда он на концерте пел "Suzanne", то Сюзанна Элрод думала, что он поёт о ней и была довольна. Потом она родила ему Адама и Лорку, мальчика и девочку. Коэн подарил ей обручальное кольцо, но понял, что органически неспособен к семейной жизни. Им никто не может, не должен владеть - иначе он чахнет, скукоживается, мрачнеет и впадает в депрессию. Ему нужны только свобода, романы, приключения и одиночество. Комната, стол, пишущая машинка, гитара и солнце в окне. На Элрод он так и не женился.
Если Коэн давал концерты в Норвегии, то Марианна непременно приходила к нему в гримёрку с букетом цветов. Долгие годы она переписывалась с Коэном.
 Стена Коэна в Монреале Стена Коэна в Монреале
Марианна умерла в июле 2016 года. В цветущем июле, в котором когда-то начался их роман.
Узнав, от друга, что она смертельно больна лейкемией (сама Марианна об этом не обмолвилась), поэт успел написать ей прощальное письмо."Дражайшая Марианна, я иду чуть позади, так близко, что могу взять тебя за руку… Я не забыл твоей любви и твоей красоты, да ты и сама это знаешь… Счастливого тебе пути, давняя подруга. Увидимся... С бесконечной любовью и благодарностью, твой Леонард".

Марианна Ихлен
И он на этот раз не обманул её. Через три месяца, в ноябре 2016 года, Коэн отправился вслед за ней.Знаменитая песня "So long, Marianne", и поныне вводящая в транс тысячи женщин планеты, стала памятником этой истории, продлившейся целых семь лет.
|
| |
| |
|










