| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
кому что нравится или житейские истории...
| |
| Гость Леонид Шварцман | Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 16:09 | Сообщение # 586 |
|
Группа: Гости
|
В этой семье меня не ждали.
Не для меня растили в два сердца своего одесского мальчика его мама и бабушка. Но именно мне – «понаехавшей», было суждено продлить этот род ещё двумя худосочными коренными одесситами...

За это я была безоговорочно реабилитирована и принята в семью. И мы, конечно же, срослись по всей плоскости корневых систем и веток. Но кое в чём я до сих пор ощущаю свою ущербность.
Одесса – это не только море. Одесса – это кухня..!
Большая, жаркая, сшибающая с ног смешением самых несовместимых компонентов и ароматов. Особенно летом - в сезон.
Я и кухня - не очень дружны по жизни. А об одесской кухне я и вовсе не успела сложить никакого представления за те два года, которые я прожила в этом городе до встречи с моим будущим мужем. И вот эта самая одесская кухня началась для меня именно с его бабушки Клавы. Потому что еда в Одессе - это святое.
В одесском доме тебя обязательно накормят, даже, если ты – не очень-то желанная будущая невестка. Поэтому, знакомясь с семьёй моего любимого, я безо всяких предисловий попала прямиком на пиршество, которого давно не знавал мой истомлённый общежитской жизнью желудок.
Бабушка Клава метала на стол куриные биточки, фаршированную рыбу, фаршированную шейку, голубчики с мизинчик, жаркое, оливьешечку, брынзу, холодчик, сопровождая всё это восклицаниями: - Ой, ну что ж вам ещё подать? Так сегодня совсем нечем угостить… – и скорбно качала головой.
Я сразу заметила, как неодобрительно бабушка поглядывает на мою худобу, и старалась очень хорошо есть.
Моя будущая свекровь в это время радушно развлекала меня разговорами, но заметив, что на шестом кусочке «шейки» я слегка побледнела, увела меня на балкон – «покурить с кофеёчком». И, хотя я никогда в жизни не курила, но то была действительно отличная идея. Так, я выжила в тот трудный вечер, и смотрины были пройдены...
Следующим подарком судьбы для меня стала необходимость пожить некоторое время под одной крышей с бабушкой Клавой. В то время подарок этот казался весьма сомнительным. Мы долго и страстно скандалили по любому поводу. Но одно оставалось неоспоримым – бабушкино верховенство на кухне.
Тут я даже не прикидывалась хозяйкой и честно пыталась научиться её премудростям. - Тюлька – чудо! – бабушка с гордостью плюхнула на стол передо мной кулёк с малюсенькими рыбками.
И аромат моего утреннего кофе мгновенно заволокло морским туманом.
Моё летнее выходное утро, которое обещало начинаться долго и лениво распитием кофе-чая в обнимку с мужем на тенистом балконе, резко оборвалось бабушкиным возвращением с Привоза.
Я хлопала глазами, совершенно не понимая, зачем нам эта мелюзга, если в доме нет кошек. А бабушка Клава уже доставала досточку, ножик и повязывала свой ослепительно чистый передник. - Щас будем чистить, - заверила она меня.
- А… можно я сначала просто посмотрю? – спросила я робко.
В ответ бабушка Клава одарила меня снисходительным взглядом, мол, что с неё возьмешь – приезжая. И принялась обезглавливать тюльку.
Может эти рыбки при жизни и видели в своих ночных кошмарах нечто настолько же ужасающе-виртуозное, но я такие скорости в разделке рыбы наблюдала впервые. Я смотрела на бабушку, раскрыв рот, и от этого неприкрытого восхищения мои акции на семейном рынке стремительно росли.
Спустя считанные минуты тюльки превратились в тушки. Отправив сковороду на огонь – разогреваться, бабушка смешала муку, яйца и соль. - Во-от, а теперь берёшь вот так пучочек, - и она смастерила букетик из 5 рыбок, держа их за хвостики, - и обмакиваешь в кляр. А теперь, оп! И на сковородку. Биточек, похожий на маленький веер, тут же запузырился по краям в раскалённом подсолнечном масле.
А бабушка Клава развернулась ко мне, вызывающе уперев руки в бока: - Ну, что – пробуй! - Я?! – испугалась я. Но куда деваться? Тюлька сама себя не пожарит.
А мне ведь придётся когда-то вытворять всё это самостоятельно на собственной кухне. Вздохнув, я запустила руку в миску, попытавшись собрать свой рыбный «букетик». Но тюльки расползались от меня во все стороны. Одна – сразу угодила в кляр. Другая - предательски выскользнула из пальцев в тот самый момент, когда я уже наконец-то собрала непослушный пучок. Она удрала от меня прямиком на сковородку, минуя всякие предисловия...
В этот момент хлопнула входная дверь и в кухню неспешной поступью усталой львицы вошла соседка: - Тётя Клава, а я заколотила блинчики, - соседка выдержала паузу, глубоко вздохнула и, словно бы нехотя продолжила, - а яйца не хватает. Одолжите яичко, тётя Клава. Бабушка пробормотала, но всё же полезла в холодильник, извлекла оттуда два яйца и вручила соседке: - Держи, с походом. А то вдруг ещё чего-нибудь заколотишь.
- Ой, спасибо.
Микады купила. Хорошие, - в том же размеренно-минорном тоне отчиталась соседка, и внезапно перешла на верхний регистр - Нет, ну а вы видели черешню на Привозе? Это ж сплошное мясо!
- Как это? – не поняла я. - Червивая вся, - пояснила она, глядя на меня, как на потерпевшую. Я поспешно отвернулась к тюльке, а соседка, с двумя яйцами и с невыразимым достоинством уплыла колотить свои блинчики.
Бабушка Клава глянула на мои биточки, сгрудившиеся нелепыми серыми бугорками на сковороде, и уверенно оттеснила меня от плиты своим внушительным бюстом: - Ай! Иди играйся – не мучай рыбу! И бросила мне на тарелку свежепожаренный биточек. Недоверчиво помедлив пару секунд, я всё же откусила, и моментально восхитилась тем, насколько вкус превосходил вид этого кулинарного чуда.
- Помидорку ещё возьми, да с хлебушком, - улыбнулась бабушка, созерцая мой восторг.
Потом между нами было очень многое.
Я научилась у неё делать зелёный борщ по-одесски, узнала секреты приготовления самого фантастического рассольника, пыталась перенимать способы закрутки помидор и приготовления икры из синеньких. Мы готовили плечом к плечу, прорастали друг в друга привычками и историями.
А потом разъехались и стали хозяйничать по отдельности.
Но на праздники вся семья традиционно собиралась за столом у бабушки Клавы.
Однажды, буквально выкатываясь после такого застолья, я спросила: - Бабуль, зачем так много еды? Мы ж не съедаем это всё...
Она присела напротив, вытирая руки крахмальным полотенцем, и ответила тихо и задумчиво: - Ну, сыты и слава Богу! И мне за вас – худосочных, спокойнее. Только бы вы не были голодными. Только бы не знали, что такое голод… И прибавила: - А вот, рыбу фаршированную ты так и не попробовала! Ну, да я вам дам с собой.
Время, как море, слизало уже и тот дом, в котором никогда не закрывались входные двери квартир. И многих жильцов того дома. Но бабушкины биточки из тюлечки так и остались для меня непокорённой вершиной - манящей, как юность, и ослепительно-яркой, как одесское лето.
Марина Линда
|
| |
| |
| smiles | Дата: Четверг, 20.07.2023, 16:22 | Сообщение # 587 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| ах какой ВКУСНЫЙ рассказ-воспоминание!
спасибо большое автору и вам, Леонид за то, что с нами поделились!
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Вторник, 01.08.2023, 16:55 | Сообщение # 588 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 710
Статус: Offline
| Повезло
Райка попала в Москву в десять лет из Рузаевки. Она там родилась, в Мордовии, и мамка с папкой тоже, и старики их, и о Москве никто даже не думал. А думали о том, как выжить после такой войны и чем её, Райку, кормить. Собственно, из-за жратвы всё и вышло. Голодно было ужасно, но Райка почему-то росла как на дрожжах, и ввысь и вширь. И к десяти годам стала такая здоровенная и толстая, что лечившая папку после ранений участковая докторша Ольга Георгиевна, застрявшая в Рузаевке после эвакуации, напугала родителей непонятными названиями болезней и велела повезти Райку в Москву специалистам показать. А заодно и папке направление в госпиталь ветеранский выправила, он к тому моменту почти не ходил уже. Папка в госпитале вскоре помер, Райку показывать врачам было недосуг, да и в Москве она сразу похудела, особенно как стала мамке помогать дворы мести и лестницы мыть. Жилье им ЖЭК, где мамка дворником и уборщицей оформилась, выделил на первом нежилом этаже, но Райке даже нравилось — комната большая, сухая, теплая, весь подъезд мимо тебя ходит, всех жильцов в лицо знаешь, и они тебя, многие Райкиной мамке сочувствовали и помогали, чем могли, а некоторые нанимали её убрать там или постирать или бабушку старенькую вымыть, так что, хоть папки и не стало, но жили они даже сытнее.
Из-за первого этажа вообще-то всё и случилось.
Где-то выше жила профессорская семья Брейшиц, Берта Натановна и Рувим Маркович. Райка думала, что они старые уже: он лысый, у неё одышка, оба в очках и вежливые, как при старом режиме. И вдруг оказалось, что Берта беременная! Она этому, похоже, удивилась не меньше Райки и плохо представляла, что с этим делать. Но, как положено, через девять месяцев родила мальчика. Веню. Малюсенького, тщедушного и лысого, как папа Рувим. Такого крохотного, что родители боялись его в руки взять, а он орал как резаный, дни и ночи напролёт, успокаиваясь только на улице в коляске. И Берта — даром, что ли, профессорша! — нашла решение. Она за двадцатку наняла Райку Венечку в коляске катать, ну и сидеть с ним, если надо. А Райке в одиннадцать лет с куклами играть поздно, а с живым дитём — в самый раз! И денежки опять же, на платьице новое или ботинки.
Братьев и сестёр у Райки не было, к Венечке она привязалась, как к родному, видя в нём и братика и сыночка одновременно, нехотя бегала в школу и спешила обратно к Брейшицам, чтобы с малышом возиться. И все были счастливы. Мамка — потому что копейка шла и кормилась Райка в богатом доме, да ещё Берта с ней английским занималась, когда Венечка спал. Берта с Рувимом — потому что сынок орать перестал, улыбался всё время, щёки от долгого гулянья были как красные яблочки, а у родителей опять появилось время науку свою жевать. Венечка — потому что рос в любви, на свежем воздухе, в тёплых, ловких и заботливых Райкиных руках. И сам любил её так, что первое слово сказал: «Яя». Брейшицы подумали, что это он о себе говорит: «Я, мол, это, я!», но Райка твердо знала, что это он её имя повторяет. Ведь это она меняла ему пелёнки, кормила кашей, у неё он впервые сел и сделал первые неуверенные шаги. Кого же ему звать, когда слова стали складываться?!
Когда Венечке было года три, дом неожиданно пошёл под снос, по этому месту должен был пройти новый проспект, жильцов расселили, Райка с мамкой получили квартиру далековато, зато отдельную и двухкомнатную, а Брейшицы, ясное дело, в центре, поэтому хочешь не хочешь — пришлось расстаться, тем более что Райка была уже в девятом классе и времени с трудом хватало только на учёбу.
Венечка так и не понял, куда делась Яя, и довольно долго звал её и грустил, но что поделаешь! Да и Райка, хоть и проплакала несколько ночей и потом около каждого незнакомого малыша останавливалась, но, стремительно становясь старше, обратила интерес на куда более взрослых парней и только изредка улыбалась, вспоминая слабенькие Веничкины ручки, обнимавшие её за шею.
Время летело — не успевали поворачиваться. Райка окончила школу, неожиданно для самой себя поступила в экономический институт, окончила и его, стала работать в проектной организации. Появился мужчина рядом, неплохой, добрый, жаль — женатый. Но правда неплохой. А потом заболела мама. И быстро как-то всё случилось. Она ведь пахала всю жизнь, лежать-то не привыкла. Поэтому полежала всего десять дней. Райку всё за руку держала. Жалела её, не себя, что Райка одна остаётся. Райка надеялась, что обойдётся, но не обошлось... И дружок сердечный пропал. То ли боялся, что с мамой надолго, то ли дома поприжали, но звонить и приходить перестал.
И Райка действительно оказалась совершенно одна. Такая тоска навалилась — жуть! Ни одной родной души! Домой ноги не шли, иной раз после работы всё по улицам ходит, ходит, пока совсем темно не становится или не замёрзнет до дрожи, лишь бы в пустые стены не возвращаться. Вот в такой день она и столкнулась с Бертой Натановной. Та очень постарела, высохла как-то, голова седым одуванчиком, но Райку узнала и рада была страшно. Рассказала, что Рувим вскоре после переезда от инфаркта умер, а они с Венечкой держатся. И похвасталась — Венечка-то уже — двадцать один год, студент МГУ, круглый отличник! И затащила Райку к ним. Они сели пить чай, вспоминать общий подъезд, Раину мамку, а тут пришёл Веня. Он ужасно был похож на Рувима — невысокий, щуплый, рано начавший лысеть. И такой родной, что Райка вдруг почувствовала себя солдаткой, дождавшейся с фронта сына и мужа в одном лице. А Веня сначала смутился, но увеличенные стёклами очков глаза сияли, он сел рядом с Райкой близко-близко и старался всё время её коснуться, словно проверял, настоящая ли она, и не мог все надышаться таким знакомым её запахом. Потом он пошёл её провожать. Потом пригласил в кино. И в театр. И в Сокольники. И ещё в кино. И замуж. И опять все были счастливы.
Берта — потому что могла спокойно отправиться к Рувиму, ведь Венечка был в надёжных и верных руках. Веня — потому что любил Райку с того момента, как открыл глаза, и вдвойне — с того момента, как увидел снова. А Райка — потому что у неё была родная семья, в которой ничего не надо было изображать и доказывать. Веня спас её от случившегося сиротства, а она его — от грядущего. А многие ведь не хотят селиться на первом этаже...
Татьяна Хохрина
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Вторник, 08.08.2023, 05:52 | Сообщение # 589 |
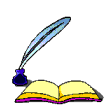 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 319
Статус: Offline
| Человек, или то, что от него осталось, попал в этот кибуц случайно, хотя и в Аушвице он выжил тоже случайно.
Он почти не говорил, не улыбался, не плакал, не жил. Он работал. Там он вывозил трупы...
Здесь он забрасывал яблоки в промышленную соковыжималку: стоя на горе яблок он механически закидывал плоды совковой лопатой в котёл, на дне которого вращались два параллельных шнека перемалывающих фрукты. А ещё ниже из трубы слева в чан лилась гуща, справа - сок.
Процесс шёл без слов и мыслей, как у машины, так и у получеловека...
Он больше не умел вспоминать. Думать. Почти разучился произносить слова. Сны ему перестали сниться после Освобождения...
Взмах, бросок, наполнение, взмах, бросок, наполнение, взмах, бросок, наполнение... Он знал, что устал, но усталость и голод давно стали его частью и он научился не замечать их...
Неловкий бросок заставил его поскользнуться, выпустить лопату, упасть и съехать по осыпающимся яблокам прямо в котёл. Дело завершила лопата, догнавшая его ударом по затылку. Очнулся он от шума вращающихся ножей и хруста лопающихся яблок прямо под ухом. Он вскочил оскальзываясь на яблоках, подпрыгнул и схватился за край чана. Но сладкий скользкий сироп предал его, как... как... он забыл, но помнил, что его предавали. Когда-то. Много раз.
Прыгнул опять, ещё и ещё.
Накатила слабость, как тогда, когда он первый раз принял своё полное бессилие перед происходившей тогда жизнью, а точнее бытовой и очень упорядоченной смертью...
Он вдруг раздвоился и увидел себя с высоты трёх метров. Как он стоит, опустив руки и прислонившись лбом к скользкой стене чана, и как домалывается последний слой яблок. Дальше сок начнут давить из него.
И тут он зарычал. Зарычал, как тогда, когда в концлагерной труповозке, которую только что загрузили, увидел своих родителей. Вместе. Обнявшись. До конца.
Рык породил это воспоминание и он закричал, перекрыв лязг спиральных ножей давилки, заорал, как родившийся ребёнок - во всю мощь своей глотки и лёгких. Со всей силы ужаса и горя проснувшегося в нём.
И наверху он увидел руку. Ему протянули руку. Через край котла. Рука, в которую он вцепился своими двумя, не обратив внимание на нож рубанувший по ноге.
На руке был синий вытатуированный номер. Из шести цифр. Это был тоже случайно живущий.
По ошибке прошедший через врата "каждому своё" в обратную сторону...
Номер вошёл в его жизнь. Да он уехал из кибуца, поселился в Тель-Авиве, но номер преследовал его вечным наваждением. В документах, которые он подписывал. В новом удостоверении личности. В номере счёта банка. В любых договорах, которые он оформлял и подписывал.
Он получил права с тем же номером. Он купил машину с тем же номером. Те же цифры присутствовали в лицензии на такси, а позже в домашнем телефоне.
И тогда он ехал туда, в кибуц, и встречался с тем, который с номером, и говорил ему, что он вспомнил всё. И говорил ему, что он уже больше не получеловек с изуродованной ногой, а человек с прошлым и будущим.
Однажды он таксовал в аэропорту Бен Гуриона. Воздушные ворота Земли Израиля.
И взял американца до Тель-Авива. Рутинная поездка. Пробка. Жара. Кто-то его подрезал, он сыграл рулём, американец уперся руками в торпедку, задрав рукава.
На его предплечье был синий номер. Из шести цифр. Пять было знакомых, а последняя на единичку больше.
Он остановился. Посмотрел на пассажира и сказал: мы сейчас поедем за мой счёт туда, где вам будут рады. И показал американцу свой шестицифирный Аушвиц. И тот сказал: да.
Они приехали в его старый кибуц и виновник его жизни здесь оказался дома.
И тогда он позвал американца...........
Это были братья-погодки. Их заклеймили в концлагере одного за другим и развели по разным баракам. В надежде найти младшего, старший прилетел из Америки в Израиль, хотя надежды-то никакой почти и не было.
Спустя четыре часа после прилёта два брата смотрели друг на друга и плакали.......
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Суббота, 19.08.2023, 09:03 | Сообщение # 590 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1455
Статус: Offline
| Марат БАСКИН – ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО
Был у меня когда-то край родной.
Генрих Гейне
ДАНИК
До революции Краснополье было большим еврейским местечком, перед войной оно стало поселком, в котором евреев стало поменьше, а после войны поселок превратился в городской поселок, и евреев в нем можно было пересчитать по пальцам, а сейчас в нем вообще не осталась евреев...
Но правил без исключения не бывает. После чернобыльской аварии, когда радиация поутру теплым майским дождем сошла на краснопольскую землю, старые специалисты правдами и неправдами стали покидать Краснополье, и в поселок стали присылать новых.
И однажды мама, которая работала медсестрой в рентгенкабинете, сказала за ужином папе:
– Наум, ты знаешь, к нам прислали нового рентгенолога. Из Минска.
– И что в этом удивительного, – сказал папа. – Скоро из старых врачей у вас не останется ни одного, и новые, я тебя уверяю, тоже ненадолго. Отбудут свой срок и уедут. Они побольше нас с тобой знают, что делается в Краснополье. Небось, семья вашего рентгенолога осталась в Минске?
– Ошибаешься, – сказала мама, – он приехал с семьей сюда. Жена у него гинеколог. А дочка ровесница нашего Даника. И, кстати, – мама таинственно посмотрела на папу и сказала, – он еврей! И знаешь, как его звать? Израиль Яковлевич! Он родом из Бобруйска. А жена у него белоруска Алеся Адамовна! Их поселили в райисполкомовском доме напротив райкома.
– Ты все сразу знаешь, – хмыкнул папа, – как будто первый секретарь райкома.
– Все, – согласилась мама, – и даже немножко больше.
– А как звать их дочку? – спросил я.
– Соня, – сказал папа, подмигнув маме и округлив глаза. – Наш Даник стал интересоваться девочками.
– Я просто так, – сказал я. – Мне просто интересно, как звать девочку, у которой папу звать Израиль, а маму Алеся.
– Да, любопытно, – сказал папа и поправил очки, – с филологической точки зрения, как говорит наш сын.
– Не знаю сегодня, – развела руками мама, – но завтра буду знать.
Но назавтра имя девочки я узнал раньше мамы. Ибо уже на первый урок в наш класс привели новенькую. Привела ее Зоя Филимоновна, наша классная.
– Это Даша, – сказала она, представляя девочку. – Она будет учиться в вашем классе. А раньше она училась в Минске.
Весь класс оценивающе посмотрел на Дашу, я на ее месте тотчас бы покраснел, а Даша даже не моргнула глазом. Она повернулась к Зое Филимоновне и спросила:
– Я могу сесть?
– Конечно, – кивнула химичка, – а ты уже выбрала место?
– Да, – сказала Даша.
Я не знаю, как вам это объяснить, но, увидев Дашу, я впервые в жизни услышал, как стучит мое сердце. Оно стучало, как настенные дедушкины часы, которые папа каждый вечер заводил большим ключом. Тик-так, тик-так... Таких красивых девочек я никогда раньше не видел. И, наверное, никто в нашем классе не видел.
У нас в классе было свободных три места: рядом с Колей Гороховым, рядом со мной и рядом с Эдиком Миллером. Из нас троих я более всего не подходил для Даши: она была почти на голову выше меня! Это сейчас я вымахал в Гулливера, а тогда я был самый маленький в классе, и к тому же самый тихий.
– Без права голоса! – как объявил мне раз и навсегда Вовка Царёв, мечта всех девочек нашей школы и “цар” всех школьников от первоклашек до выпускников. Это слово он произносил по-белоруски, без мягкого знака. Он никогда не повторял свои слова дважды и все знали, что не выполнить его слово – это обречь себя на жестокое избиение в назидание потомкам. В отличие от нас, он на каждом уроке менял себе соседа, выбирая соответствующего знатока в нужной ему в эту минуту сфере знаний. Иногда на биологии я удостаивался чести сидеть с ним. На химии с ним сидел Колька – Пробирка, который в химии знал все и еще чуть-чуть, как говорила наша химичка.
И, конечно, увидев Дашу, Цар решил сделать царский жест. Он, опережая Дашин выбор, столкнул со своей парты Пробирку и повелительно сказал, обращаясь к новенькой:
– Прошу, миледи! Место ждёт вас!
Колька моментально перескочил на мою парту и виновато сказал:
– Приказ Царя!
Даша посмотрела на Царя, улыбнулась и... направилась к моей парте. Подойдя, она положила сумку на крышку парты и, глядя прямо в глаза Пробирке, сказала:
– Пожалуйста, вернись на своё место. Здесь буду сидеть я.
Глаза Кольки забегали, как у мышонка, попавшего в мышеловку, он посмотрел на Царя, потом на Дашу и встал. Какое-то мгновение стоял, не зная, куда податься, потом, метнув извиняющий взгляд на Царя, уместился на краешке Эдикиной парты. И Даша села возле меня.
Класс замер в ожидании перемены. Мой друг Вадик, который сидел за мной, прошептал:
– Бить будут...
В этот день у нас была контрольная по химии, но всем было не до неё. Особенно мне. А Даша спокойно расправлялась с формулами, как будто гроза, нависшая над классом, её не касалась. И тогда я, не выдержав, написал на промокашке: “Ты обидела Вовку Цара. Он бить будет!” и пододвинул её к Даше. Она пробежала глазами моё послание и приписала внизу: ”Чепуха!”
После звонка на перемену, когда Зоя Филимоновна, собрав тетрадки, вышла из класса, все, как по команде, повернули головы в сторону моей парты. Вовка медленно поднялся со своей парты и медленно подошёл к нам. Он остановился возле меня и, растягивая каждое слово, сказал:
– Растворись! – и замер в ожидании моего исчезновения.
Раньше я бы растворился, исчез, пропал, уполз, размазался бы по стенке, но сейчас возле меня сидела Даша, и я остался на месте, вжавшись в парту. Цар удивленно посмотрел на меня: мол, девочка не знает местных законов, но ты должен их знать, как дважды два четыре!?
Он хмыкнул и повернулся к последней парте, за которой сидел его личный палач Санька Дылдин:
– У еврейчика что-то со слухом. Он не понимает по-русски. Переведи ему по-еврейски.
Санька хихикнул и поспешил ко мне. Я ещё больше вжался в парту и замер в ожидании боли, прикрыв ладонями уши. Санька протянул к моим ушам руку, и в эту минуту Даша, до этого спокойно сидевшая рядом, вскочила и, на лету перехватив его руку, резко потянула её на себя, и Дылда, закружившись на месте, как волчок, сделав пируэт в воздухе, растянулся на полу и замер, не соображая, что произошло. А Даша следующим движением ткнула ладонью Царя, и тот, сложившись, как перочинный ножик, медленно сел на пол.
– Тэквандо, – сказала Даша незнакомое нам слово, и пояснила, – у меня третий дан!
Класс на мгновение замер. А потом Таня Спицына, наш комсорг, растерянно сказала:
– А у Царя мама секретарь райкома!
Мы это и без неё знали. Сказала она это не для нас, а для новенькой. И новенькая ей ответила:
– А у меня мама врач. Это более нужная профессия!
Вечером, когда я дома рассказал о случившемся, папе больше всего понравились в этой истории слова Даши.
– Умная девочка! – сказал он.
– Ой, – сказала мама, – ничего умного я в этих словах не вижу. Не дай Бог, эти слова дойдут до Клавдии Петровны!
– Сталинские времена прошли, – заметил папа.
– Неважно, – сказала мама. – Им и сейчас хватает власти, чтобы устроить вырванные годы, кому захотят.
– И что они сделают? – хмыкнул папа. – Уволят?
– Уволят! – согласилась мама.
– Так они уедут с этой радиации и ещё скажут им за это спасибо! – засмеялся папа.
Позже, когда мы с Дашей стали друзьями, я как-то у неё спросил, почему она из всего класса выбрала меня.
И Даша сказала:
– У тебя добрые глаза.
– И что из этого? – сказал я.
– Мой дедушка, мамин папа, – художник, – сказала Даша, – он рисует портреты. И он мне сказал, чтобы понять человека, надо посмотреть ему в глаза. Если они добрые, значит, и человек добрый. Ты – добрый, и поэтому я тебя выбрала.
– И у тебя добрые глаза, – сказал я.
Но Даша возразила:
– Нет, у меня глаза зелёные, как у кошки. А кошки не всегда добрые. Они разные. И я разная. Иногда совсем-совсем не добрая. Дедушка нарисовал меня с кошкой в руках. И глаза у нас с кошкой на этом портрете одинаковые. Малахитовые, как говорит дедушка. Этот портрет висит у меня над кроватью. Кстати, он свою кошку зовет, как и меня, Дашкой. И имя мне он придумал. Говорит, шляхетное! Паненку так звали в их деревне.
Даша вошла в мою жизнь совершенно неожиданно. Я вдруг неожиданно повзрослел. И так же неожиданно для самого себя я вдруг почувствовал, что не могу жить без Даши. Мне хотелось её видеть, слышать её голос, думать о ней. О своём состоянии я почему-то сказал не маме, а папе. И папа сказал:
– Ты, Даник, влюбился.
И я сказал:
– Папа, мне не хочется расставаться с Дашей!
– А почему ты должен расставаться? – спросил папа.
Я удивленно посмотрел на него: неужели забыл? И сказал:
– Мы же едем в Америку!
Летом мы прошли интервью в американском посольстве и могли уже ехать в Нью-Йорк, где жили папины сёстры, но мама решила задержаться с отъездом, чтобы я смог закончить школу.
– Я тогда хотел, чтобы время пробежало быстрее, но тогда я не знал Дашу! – сказал я папе. – Ты знаешь, как мне теперь плохо?
– Знаю, сынок, – сказал папа. – Но ты же расстаёшься с Дашей не навсегда, ты будешь писать ей письма, а потом, когда подрастёшь, приедешь за ней, женишься и привезешь её в Америку.
– А мне можно про это сказать Даше? – спросил я.
Мы никому в Краснополье не говорили, что собираемся ехать, и мама строго-настрого предупредила меня молчать:
– Кто знает, что и как получится, – сказала она. – Скажем обо всём в последний день. И то, самым близким друзьям. В Славгороде за день до отъезда вырезали еврейскую семью. Думали, что они золото вывезти собрались!
– У нас золота нет, – сказал папа.
– У них тоже не было, – сказала мама. – Я вам сказала – молчите! И всё.
И мы молчали. Но мне очень хотелось об этом сказать Даше. Я чувствовал, что Даша меня успокоит и мне станет легче. И папа это понял:
– Скажи, – сказал он.
– А мама что скажет? – спросил я.
– Я с мамой поговорю, – сказал папа.
И я рассказал всё Даше.
Даша молча, не прерывая меня, выслушала мой рассказ, потом, задумавшись, сказала:
– Мне тебя будет не хватать.
– И мне тебя, – сказал я.
– Но, слава Богу, ты не на войну едешь, как говорит моя бабушка, папина мама. Она всегда так говорит, когда что-нибудь не получается, как мы хотим. И ещё она всегда не забывает сказать: раз не на войну, значит, всё ещё будет у нас хорошо! – Даша осторожно дотронулась рукой до моей руки. – Всё будет хорошо! Ты же едешь не куда-нибудь, а в Америку. Там тебе будет хорошо. А если тебе будет хорошо, значит, и мне будет хорошо. А потом ты приедешь за мной.
– Да, – сказал я.
– И привезёшь мне Барби, – сказала Даша.
– Кого? – переспросил я.
– Кукла такая есть, американская, – сказала Даша, – в Минске у нас в классе, у одной девочки папа работал в ООН, и у неё была Барби. Это, правда, было в первом классе. Но я и сейчас помню, как я хотела иметь такую куклу.
– Я привезу тебе Барби, – пообещал я.
– У нас впереди ещё почти два года. Давай пока не думать про отъезд, – сказала Даша. – Хорошо?
– Хорошо, – согласился я.
Но два года неожиданно сжались в полтора месяца: в жизни не всегда всё можно заранее предугадать. Где-то перед Новым годом мы получили письмо из посольства, в котором интересовались причинами нашей задержки с отъездом. И вслед за этим письмом пришло письмо от тёти Розы. В нём она, как говорит папа, метала огни и молнии в наш адрес и требовала, чтобы мы незамедлительно выехали: у них там все говорят, что могут вообще закрыть въезд в Америку и мы не понимаем, что играем с огнём, а Данику даже лучше будет, если школу он закончит в Нью-Йорке, а не в вашем идиотском Краснополье.
– Может, Роза и права, – сказал папа. – Здесь тоже может всё поменяться. И мы останемся при своих чемоданах.
Мама, как всегда, два дня думала, прикидывала, как лучше поступить, и, в конце концов, согласилась со всеми, что надо ехать сейчас. И её аргумент был убедительней всех:
– Я, как дура, тяну время и держу ребёнка в радиации!? У меня есть голова на плечах или нет?
Даша, узнав о приближающемся дне моего отъезда, вздохнула и согласилась с маминым доводом:
– Мне, конечно, Даник, очень хочется, чтобы ты здесь оставался подольше, но мама твоя права. Мой папа говорит, что здесь очень большая радиация. И продукты грязные... Не переживай, мы увидимся!
– Увидимся! – сказал я.
И почему-то не поверил в сказанное. К горлу подступил комок, и я едва удержался, чтобы не заплакать. Ведь Даша сказала как-то, что мужчины не плачут.
Уезжали мы за день до 8 Марта. Заказали автобус на чериковской автобазе, и он должен был приехать за нами в три часа ночи. В этот вечер в клубе было торжественное собрание, посвященное женскому дню, а после него концерт. Давали его преподаватели и ученики нашей музыкальной школы. Выступала на нём и Даша.
– Куда ты пойдёшь, – сказала мама, – ночью нам уезжать!
– Я послушаю Дашу и сразу уйду, – сказал я и с надеждой посмотрел на маму.
– Пусть идёт, – сказал папа. – В автобусе отоспится.
И мама согласилась.
Даша выступала в первом отделении. Постоянный наш ведущий Сашка-цыган объявил выступление Даши:
– Ноктюрн Шопена.
Даша вышла на сцену. Посмотрела в зал. Увидела меня. И пошла не к пианино, а к микрофону.
– Я сегодня буду играть не ноктюрн Шопена, – сказала тихим голосом Даша, – а полонез Огинского. Он называется «Прощание...– она на мгновение замолкла, потом докончила предложение, – с Родиной», – и пошла к пианино.
И я понял, что это прощание Даши со мной.
Вместе со звуками музыки дрожь побежала по телу, и я, как во сне, вместе с Дашей, побежал в город нашей любви. Даша крепко держала меня за руку, но потом налетевший откуда-то ветер разорвал наши руки, и мы разлетелись, как птицы, напуганные стрельбой. И когда замер звук и стоящий за мной мужчина спросил:
– Тебе плохо, мальчик? – я очнулся.
И сразу увидел почему-то Дашину маму.
В клубе было очень много народа. Но увидел почему-то я только её. Она вытирала слёзы.
А потом меня отыскала Даша.
– Спасибо, что пришёл, – сказала она. – Я тебя очень хотела видеть.
– И я тебя, – сказал я.
– Ты будешь до конца? – спросила Даша.
– Нет, – сказал я, – ты же знаешь, в три часа уезжаем. Надо идти домой.
– Я приду провожать, – сказала Даша.
– Не надо, – сказал я, – спи!
–Приду, – возразила Даша.
И пришла. Успела буквально в последнюю минуту. Автобус уже выехал со двора и разворачивался возле военкомата. И в это время я увидел её.
Автобус остановился, и я выскочил к Даше.
– Еле успела, – сказала Даша, – хорошо, что мама будильник поставила. Я не спала, не спала, а в последнюю минуту задремала, – и Даша протянула мне дедушкину картину, которая висела у неё над кроватью, её любимую Дашу с Дашкой, – это тебе, – сказала она, – будешь смотреть на неё и вспоминать меня, – потом она обняла меня и прошептала в ухо, – я люблю тебя! – и поцеловала.
Меня первый раз в жизни поцеловала девочка. Я заморгал от растерянности. А Даша заплакала. И я сжал губы, чтобы не заплакать. Мама, поняв наше состояние, выскочила из автобуса и обняла Дашу.
– Что ты, Дашенька, плачешь? Вы увидитесь ещё! Обязательно. Он приедет и сразу тебе напишет! – мама говорила ей то, что сказать должен был я, но я не мог сказать ни слова, ибо слёзы переполняли меня...
Всю дорогу до Минска я молчал, держа на коленях Дашин подарок.
И папа с мамой тоже молчали.
Расстался я с картиной, когда таможенники начали осматривать наши вещи. Высокий полнолицый парень взял в руки картину и, повернувшись к маме, спросил:
– У вас есть разрешение Министерства культуры?
– Нет, – растерянно сказала мама. – Это сыну подарила девочка буквально перед отъездом. Это её портрет!
– Понимаю, – сказал таможенник и вздохнул, – но по закону нельзя пропускать. Вас кто-нибудь провожает?
– Нет, – сказала мама.
Парень посмотрел ещё раз на картину и повернулся ко мне:
– Оставляешь невесту, – сказал он.
– Да, – сказал я и с надеждой посмотрел на него, – пожалуйста, не забирайте картину.
Он задумался, а потом в сердцах сказал:
– Воссоединение семей!? Кто-то воссоединяется, а кто-то разъединяется. Не просто в жизни устроено. У меня девушка осталась в Литве. В соседней деревне живёт. А сейчас это уже заграница, – он махнул рукой и протянул мне картину. – Бери!
– Спасибо, – сказал я.
Таможенник подмигнул мне и сказал:
– Дай вам Бог не растеряться! – и ушёл.
И картина осталась у нас.
В Нью-Йорке, в аэропорту, нас встречали папины сёстры. И тётя Беття спросила:
– Ну как таможенники поиздевались над вами? Когда мы летели из Ленинграда, эти газлоным устроили нам вырванные годы!
– А у нас были хорошие люди, – сказал я.
– Среди них есть хорошие? – удивилась тётя и посмотрела на папу. – Даничка, ты, наверное, проспал таможню?
– Беття, – сказал папа, – нельзя всех мерить под один аршин, как говорила наша мама. У нас были даже очень хорошие люди!
– Может быть, – сказала тётя, оставшись в душе при своём мнении.
Как только мы устроились с жильём, я написал письмо Даше. И стал ждать ответа. А ответ не приходил. И я написал новое письмо. Второе, третье, четвёртое... Папа говорил, что письма идут пароходом и поэтому надо ждать месяца три-четыре, а мама говорила, что они не доходят, их вскрывают на почте, ищут доллары. А потом, примерно через полгода, вернулось моё первое письмо с припиской, что адресат выбыл в неизвестном направлении. А потом вернулись второе, третье.., десятое.
Я очень переживал. И папа с мамой, как могли, успокаивали меня.
И папа сказал:
– Станешь взрослым, получишь паспорт и съездишь в Краснополье, поищешь Дашу, а пока надо учиться и взрослеть!
И я стал учиться и взрослеть.
ДАША
Когда я вернулась домой, проводив Даника, мама не спала.
– Тебе плохо? – спросила мама.
– Плохо, – сказала я. – И мне не хочется говорить.
– Ложись, – сказала мама.
И я легла не раздеваясь. И долго смотрела на гвоздь на стене, на котором висела дедушкина картина. И думала, что, наверное, не надо было дарить картину, потому что я на ней слишком красивая, а в жизни я хуже. Даник будет представлять меня такой, как я на картине, а потом увидит, какая я есть, и разлюбит. А приедет он через много-много дней, и я буду совсем-совсем другой. Я долго думала про это, может час, а может два, а потом не выдержала и окликнула маму и рассказала ей про это.
– Глупенькая, – сказала мама, – ты будешь ещё красивее.
– Откуда ты знаешь? – спросила я.
– Я всё знаю, – ответила мама, – и что было, и что будет!
– Как цыганка? – спросила я.
– Как мама, – сказала мама.
– Тогда скажи, Даник напишет мне или нет? – попросила я.
– Напишет, – сказала мама.
И я стала ждать письма. Каждый день, приходя из школы, я прежде всего смотрела почту. Но письма из Америки не было. И так прошло два месяца. А потом папа пришёл раньше времени с работы и сказал, что облздрав их с мамой переводит в Гомельскую область, в Калинковичи.
– Им кажется, что здесь мы набрали не все рентгены и нам решили их добавить, – сказал папа, – так что опять в путь-дорогу!
– А как меня найдёт Даник? – испуганно спросила я.
– Если судьба, то найдёт, – сказал папа. – А если нет, то на нет и суда нет. Такие вот пироги, евробелка!
Евробелкой меня зовёт папа: когда мне было пять лет, я как-то в детсаде узнала, что у меня папа еврей, а мама – белоруска. А кто я, мне не сказали. Я пришла домой и спросила у мамы:
– А кто я?
– Спроси у папы, я в таких сложных вопросах не разбираюсь, – сказала мама.
А папа выслушал меня, подумал и сказал:
– Ты евробелка.
– Почему? – спросила я.
– Потому что у тебя папа еврей, это значит евро, а мама белоруска – это значит белка, вот и получилось евробелка! – объяснил папа. – Довольна?
– Довольна, – сказала я.
А потом я про это спросила у бабушки Розы. И бабушка сказала:
– Если по еврейским законам, то национальность по маме, и ты – белоруска, а если по белорусским законам, то по папе, и ты – еврейка. Так что, кем хочешь, тем и будь!
А дедушка Адам объяснил всё по-другому:
– Все люди от Адама и Евы. Так что ты Адамова внучка!
– Твоя? – уточнила я.
– И моя, – согласился дедушка.
Так меня дома и зовут: то евробелка, то Адамова внучка.
Я как-то про это рассказала Данику, и он сказал, что будет меня звать просто белкой. И покупать мне орешки, которые я очень люблю. Если бы он знал, в какое колесо попала его белка?
В последнюю неделю перед отъездом из Краснополья я, каждое утро просыпаясь, колдовала, как маленькая девочка:
– Пожалуйста, пожалуйста, пусть сегодня будет письмо от Данника!
Но письмо не пришло... И мы уехали.
Из Калинковичей я послала письмо на краснопольскую почту и очень просила переслать мне письмо, если прибудет на мой старый адрес. Но никто мне не ответил. Значит, не твоя судьба, как сказал папа. А какая моя судьба?
А моя судьба оказалась совсем-совсем нехорошей. Через несколько месяцев после переезда в Калинковичи неожиданно умерла мама: пришла с работы, прилегла отдохнуть и не встала. И осталась я с папой. А потом к нам приехал дедушка Адам. И папа сказал, что бабушка Роза из Бобруйска уезжает в Израиль.
– И ты поедешь с ней, – сказал папа, – мы с дедушкой подумали, что так будет лучше.
– А ты? – спросила я.
– А я пока останусь здесь, – сказал папа. – Надо маме поставить памятник, управиться с кой-какими делами. А потом приеду к вам.
– И я останусь с тобой, – сказала я. – А потом приедем вместе.
– Надо, внучка, тебе ехать сейчас, – возразил мне дедушка. – Сама понимаешь, бабушка Роза очень старенькая, и с переездом ей одной не управиться.
– А пусть она подождет нас с папой, и вместе поедем, – сказала я.
– Бабушка не может ждать, – сказал папа. – Ей срочно надо делать на сердце операцию.
– И эту операцию могут сделать только за границей, – сказал дедушка.
Я не хотела оставлять папу одного. Я каким-то третьим чутьём чувствовала, что мне что-то не договаривают. На душе было совсем плохо...
Улетали мы с бабушкой из Минска. Папа с дедушкой провожали нас. Перед барьером с таможенниками папа прижал меня к себе и долго так стоял, пока дедушка не тронул его за руку:
– Им пора уже!
– Пора, – папа ещё крепче прижал меня к себе, поцеловал и отпустил. – Будь счастлива, дочка!
– До встречи, папа, – сказала я.
Он ничего не ответил.
Бабушка всё время плакала: и в аэропорту, и в самолёте, и в Израиле. Она всё знала. Не знала только я, что папа смертельно болен и осталось ему жить считанные месяцы, и он не хотел, чтобы я мучилась, присутствуя при его последних днях... Он не успел поставить памятник маме, и дедушка поставил памятник им обоим...
(окончание рассказа см ниже)
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Суббота, 19.08.2023, 09:05 | Сообщение # 591 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1455
Статус: Offline
| Мы с бабушкой поселились в Тель-Авиве, недалеко от торгового центра «Кикар Атарим». Бабушке сделали операцию, но после ей стало хуже, она с трудом стала передвигаться и почти всё время проводила дома, сидя у окна. Из нашего окна был виден краешек моря. И бабушка всё время меня спрашивала:
– Там за морем Бобруйск?
– Да, – говорила я.
И бабушку это радовало.
Я окончила школу хорошо, но решила поступать учится после службы в армии. Идти служить мне надо было в сентябре, и я на несколько месяцев устроилась продавщицей в ювелирный магазин. Держали его бывшие киевляне. Заправляла всеми делами хозяйка Елизавета Марковна, а хозяин Лев Львович в основном курил, сидя в кресле возле магазина. Когда жена начинала шуметь, что он ничего не делает, он, не вставая с любимого кресла, поворачивал голову и спокойно говорил:
– Ша! Я работал там, чтобы ты могла работать здесь! Начальник ОБХС плакал, когда я уезжал. Эта девочка не знает, почему он плакал, но ты знаешь! Так что дай мне спокойно пожить оставшиеся годы. И видеть во сне эту девочку, а не эти бриллианты, от которых мне тошнит!
После этого Елизавета Марковна ворчала минут пять, а потом говорила мне:
– Ты думаешь, он там ворочал делами? Нет, это я ворочала своей головой и там, и тут. И благодаря мне он просидел спокойно двадцать лет в «Ювелирторге». А без меня его бы посадили в первый год, не дай Бог! Я ему все отчёты делала, и так делала, что ни один комар не мог подточить носа! Но мужчины всегда считают, что, раз они носят штаны, значит, всё держится на них! Пусть так считают, а мы будем считать денежки, так говорила моя мама, самая умная женщина в Виннице.
Бабушка очень любила слушать мои рассказы о разговорах Елизаветы Марковны и Льва Львовича. Во всех историях она всегда была на стороне Льва Львовича.
– Мужчины всегда правы, – учила меня бабушка житейской мудрости. – Они – большие дети! А что надо ребёнку? Казаться взрослым! Твой дедушка Рахмиил кроме своей бухгалтерии ничего не знал, но любил давать советы по любому поводу! И я говорила – хорошо, ты прав, я сделаю, как ты говоришь, и делала, как я знаю. И прожили мы жизнь, дай Бог каждому! Спроси любого в Бобруйске, и он тебе скажет, что умнее Рахмиила там не было человека. А всё потому, что я создавала ему авторитет! Каким мы создадим мужчину, таким он и будет! Какой был у Хаи-балабосты из Касриловки муж?! Не голова, а Дом Советов! А она на каждом углу кричала, что он амишугенер. И что ты думаешь? Все считали его дураком! Даже Мома-дурак говорил, что он умнее Хайкиного Аврома!
Все разговоры о жизни бабушка заканчивала одним и тем же:
– Дашечка, я всё это говорю не просто так. Я тебя учу жить. И ещё я тебе хочу сказать, что мне не двадцать лет и скоро меня позовут, куда надо, и я не хочу тебя оставлять одну: пора тебе иметь жениха. Если бы мои ноги ходили, я бы тебе давно нашла хосуна. А так что я могу делать? Тебя пилить!
Бабушка выжидающе смотрела на меня и, не дождавшись моего ответа, продолжала начатую мысль:
– Забудь своего Даника! Школьная любовь, что укус комара: поболит, поболит и пройдёт. Твой папа влюблялся в каждом классе, а потом встретил твою маму, и прожили они, дай Бог тебе так!
Такие беседы со мной бабушка проводила ежедневно и, когда неожиданно Елизавета Марковна предложила мне познакомиться с хорошим мальчиком, я согласилась.
Когда я этим обрадовала бабушку, она хитро посмотрела на меня и сказала:
– И кто ты думаешь, тебе сделал протекцию?
– Ты, – догадалась я.
– Ты угадала, – сказала бабушка. – Я поговорила с твоей балабустой по телефону. И она обещала тебе помочь. И я тебе скажу больше: я уже говорила с его родителями.
– Что? – от неожиданности у меня перехватило дыхание.
– Хорошие люди, – сказала бабушка. – Они из Белой Церкви. Приехали сюда три года назад и уже имеют русский магазин. А сын у них учится на компьютерщика. И Елизавета Марковна говорит, что, как только он окончит, они помогут ему открыть своё дело.
– Бабушка, – перебила я её, – ты так обо всём говоришь, как будто у нас завтра свадьба. Может, я ему не понравлюсь?
– Внучечка, не делай из меня молодую идиотку, – остановила мой порыв бабушка. – Если я и идиотка, то очень старая. А старая идиотка кое-что соображает. Разве ты можешь кому-нибудь не понравится? Если такой найдётся молодой человек, то мы ему скажем до свидания!
Но до свидания мы Алику не сказали. Я ему понравилась, и мне почему-то начало льстить, что он выбрал меня. Он показался мне надёжным, прочным, сильным, ослепительно обворожительным: на него засматривались все девушки и с завистью смотрели на меня. Он это видел и подмигивал мне: смотри, как тебе повезло! Он закружил мне голову как-то быстро и легко. Я даже не заметила этого. Я просто вдруг поняла безнадежность своих детских мечтаний. Поверила в правоту бабушкиных слов. И Даник ушёл из моих снов...
Бабушке Алик понравился с первого взгляда. И она, как сказала мне, стала ежедневно молиться, чтобы у нас что-то получилось.
– Агутэр хосун, хороший жених, – говорила она каждый раз, когда он заходил к нам. – С ним поговорить – всё равно, что ребе послушать!
Говорить он умел и любил, чтобы его слушали. Если с Даником в основном говорила я, то здесь я только внимала... Бабушка мечтала, чтобы мы быстро поженились, до моей армии, и тогда меня бы освободили от службы. Но Алик не спешил, сказав как-то мне, что сначала надо получить специальность. Он учился в университете, и ему до окончания учебы дали отсрочку от армии. Он меня часто спрашивал, куда я собираюсь пойти учиться, и я всегда честно отвечала, что не знаю. И это ему не нравилось.
– Даша, – говорил он, хмурясь, – неужели ты всю жизнь собираешься проработать в магазине?
Конечно, я не собиралась этого делать, но почему-то говорила, что не знаю, как получится, и это выводило его из себя.
Он даже бабушке пожаловался на меня.
И бабушка сказала:
– Нельзя так вести себя! Ты же будешь дальше учиться! Так и скажи ему!
– А что, ему не всё равно? – сказала я.
– Не всё равно, – сказала бабушка. – И что ты видишь в этом плохого? Они хотят, чтобы ты училась.
– Ничего, – сказала я. – Только я хотела быть с ним такой, какая я есть! Я ему всегда говорю правду.
– Вот это не обязательно, – сказала бабушка. – Поверь мне, старухе, тысячи хороших пар распались из-за правды! Если он тебе не нравится, то, пожалуйста, говори ему правду. А если он нравится, то помолчи!
И я промолчала.
В армию я ушла в ноябре. И попала в элитные части, в коммандос. Бабушке я про это не сказала, а порадовала её, сказав, что меня взяли поваром!
– Лучше не придумать, – сказала бабушка, – они знали, что делают. Ты всю жизнь, как я тебя помню, кулинаришь.
Тут бабушка была права: я готовила всегда, папа с мамой пропадали на работе, и ответственной за еду в доме всегда была я, а теперь здесь я тоже занималась и покупками и приготовлением еды, и, даже служа в армии, ухитрялась во время увольнительных приготовить бабушке на неделю всего.
Алику я рассказала правду, но взяла с него слово, что он никому про это не расскажет. Бабушка была довольна, но её немножко пугало, что я появлялась дома с автоматом.
– Для чего повару такая игрушка, – говорила она. – Ещё, не дай Бог, выстрелит! – и просила меня сразу же по приходу прятать автомат в шкаф.
Когда я приходила домой, бабушка пересказывала мне все местные политические новости, которые она узнавала из телевизионных новостей, как будто я возвращалась с необитаемого острова. Честно говоря, я слушала её рассказы одним ухом, но с внимательным лицом, чтобы ни обидеть её. Так же, витая в мыслях где-то вдали от бабушкиной истории, я услышала от неё про захват террористами нашего самолёта. Они заставили его приземлиться в столице какого-то африканского государства. И сейчас требовали выпустить из израильских тюрем таких же газлоным, как они!
– А цорэс, – сказала бабушка, – они уже застрелили двоих пассажиров! Кто-то летел куда-то и на тебе! Там есть маленькие дети! А они говорят, что будут стрелять каждый день! Неужели наши будут молчать?
– Не будут, – успокоила я бабушку.
– Ты так думаешь или у вас про это говорят? – сказала бабушка.
– Говорят, – сказала я.
И попала в точку. У нас и вправду про это уже говорили. Через час меня срочно вызвали в часть. А ещё через несколько часов мы были в ночном африканском небе...
А потом был короткий бой. И глаза террориста, почти моего ровесника. В его глазах был страх. Самое страшное, что может быть в человеческих глазах. Страх заставляет или сдаваться, или убивать. По его вздрагивающим зрачкам, я поняла, что сейчас он будет убивать! В какие-то доли секунды я свернулась калачиком у его ног, и автоматная очередь прошла надо мной. А в следующую секунду я, как сжатая пружина, выпрямилась, и, опережая его, выстрелила на взлёте. И увидела, как погасли его глаза. Потом они долго снились мне по ночам, и я плакала во сне, пугая бабушку.
Под утро мы вернулись назад. Командир нас обнял, всех по очереди, и сказал:
– Дай нам Бог обходиться в этом мире без оружия! Дай нам Бог! – и добавил: – мы умеем стрелять, но избавь нас от этого Бог!
И мы разошлись по домам – отдыхать....
Бабушка с новостью встретила меня на пороге:
– Дашенька, ты знаешь: их освободили!
– Кого их? – спросила я.
– Она ничего не знает, – возмутилась бабушка. – Об этом говорят целое утро: освободили наш самолёт! Я знала, что мы не дадим им обижать наших! Какие молодцы наши солдаты! Сегодня нужно выпить за них абисалэ вайн! Надо выпить немножко вина! Я правильно говорю?
– Правильно, – сказала я.
И мы с бабушкой выпили по стаканчику бабушкиной наливки.
А потом я попробовала лечь и заснуть, но не спалось: как только я закрывала глаза, передо мной возникали угасающие глаза парня из самолёта. И он, мёртвый, стрелял в меня...
А потом позвонил Алик. Бабушка принесла мне трубку в кровать.
Я взяла трубку и неожиданно услышала:
– Даша, теперь ты можешь выходить замуж!
– Почему? – удивилась я аликиным словам.
– Как писал Геродот, у сарматов девушек не брали замуж, если они не убили хоть одного врага!
– Откуда ты знаешь? – растерянно сказала я.
И он засмеялся:
– Вот и попалась! Я догадался, что ты освобождала заложников! Рассказывай, как ты убила врага.
– Я не хочу об этом говорить, – сказала я.
– Понимаю, – сказал он. – Рядом бабушка.
– Я просто не хочу про это вспоминать, – сказала я. – И никогда, пожалуйста, не спрашивай меня про это!
Но он спросил в тот же вечер. И очень обиделся, когда я отказалась ему рассказывать.
– Как будто я чужой! – сказал он.
– Нет, – сказала я, – потому что ты не чужой мне! И должен понять меня.
Но он не понял. А мне так хотелось, чтобы он меня понял...
И я рассказала ему всё, до конца, ничего не утаивая. И он сказал совсем не то, чего я ждала.
– Одним врагом у Израиля стало меньше, – сказал он и добавил: – первый раз убивать трудно, потом будет легче.
– Я не хочу, чтобы было потом, – ответила я и повторила слова нашего полковника: – мы умеем стрелять, но избавь нас от этого Бог!
А потом было серое жгучее утро. Дул хамсин. На остановке народу было много: автобус что-то запаздывал. Недалеко от меня маленький мальчик – араб, на вид лет трёх-четырёх, играл с заводной машинкой. Машинка носилась между стоящими людьми и то и дело цеплялась всем за ноги, и мама мальчика покрикивала на него:
– Али, ты всем мешаешь. Успокойся.
Но малыш не слушался. Видно игрушку ему купили не так давно, и он никак не желал расставаться с интересной игрой.
И в это время мужчина заметил стоящую беспризорную сумку. Толпа на остановке в момент стала образовывать вокруг сумки пустоту, и в это время машинка, зацепившись за чей-то ботинок, развернулась и помчалась к сумке. И малыш побежал за ней!
– Али! – закричала в отчаянии женщина.
Я обернулась и мгновенно поняла, что машинка раньше уткнётся в сумку, чем малыш догонит её. И в отчаянном прыжке накрыла собой малыша. И грянул взрыв...
Очнулась я в госпитале. Первое, что спросила:
– Как мальчик?
– Ни одной царапины, – сказал врач. – А у вас царапины есть, но, слава Богу, все наружные. Взрывом подбросило навес на остановке. И он накрыл вас с мальчиком, как щитом.
– Щитом Давида, – сказала медсестра, – он спас вас.
– Я долго была без сознания? – спросила я.
– Не очень, – сказала медсестра.
– Мне можно позвонить бабушке? – спросила я.
– Пожалуйста, – сказала медсестра.
Но я побоялась звонить бабушке, чтобы не напугать её, и позвонила Алику.
– Ты с ума сошла, – первое, что сказал он мне.
– Почему? – спросила я.
– Спасаешь араба!? Как последняя дура!
– Может быть, – сказала я.
– Что может быть? – спросил Алик.
– Что я дура, – сказала я. – Но лучше быть дурой и кого-то спасти, чем быть умной и дать кому-то погибнуть!
И я положила трубку.
А потом позвонила бабушке.
– Я всё уже знаю, – сказала она. – Мне звонила мама мальчика и сказала, что ты ей, как сестра. А её муж Хасан тебе, как брат.
– Ты поняла, что она тебе сказала? – удивилась я.
– За кого ты меня принимаешь?! – сказала бабушка. – Когда я услышала, что мне что-то говорят про тебя, я сказала, подождите минуту и побежала к нашей соседке с третьего этажа, и Цылечка мне все перевела на идиш! И теперь я знаю, что в нашей мишпохе, кроме белорусов, евреев, грузин, появились и арабы.
– Откуда грузины? – спросила я.
– От твоего дяди Самуила, – сказала бабушка. – Он привёз в Бобруйск такую красавицу из Рустави, что половина города по утрам ходила к его дому смотреть, как эта красавица расчесывает на балконе свои косы.
А потом бабушка осторожно спросила:
– А ты звонила Алику?
– Звонила, – сказала я таким голосом, что бабушка, всё поняв, ничего не переспросила.
ДАНИК
Я очень медленно взрослел. Хотя вытянулся к двенадцатому классу, догнал своих сверстников и даже их обогнал.
– Скоро будешь, как Майкл Джордан, – шутил папа.
Я поступил в Yale University на врача, и после первого курса меня направили по программе обмена студентами на год в Сорбонну в Париж.
– Теперь я взрослый, – сказал я папе.
– Почему ты так решил? – спросила мама.
– Потому что вы отправляете меня одного во Францию, – сказал я.
– И что ты этим хочешь нам сказать?– спросила мама.
– Что на каникулы я из Парижа поеду в Краснополье, – сказал я, – и найду Дашу.
– Может, она давно вышла замуж, – осторожно сказала мама.
– Может, – согласился я, – но я об этом должен знать.
– Если кто-то об этом знает в Краснополье?! – сказал папа. – Там, наверное, не осталось ни одного знакомого человека.
– Кто-нибудь да остался, – сказал я.
– Пусть едет, – сказала мама, – иначе он никогда не успокоится.
А мне сказала: «Но если ты ничего не узнаешь о ней, снимаешь её портрет над кроватью и ищешь себе невесту. Договорились?»
Я согласился. Я сейчас согласился бы на всё: главное, что мне разрешили ехать в Краснополье. Я не верил вернувшимся письмам.
И в первую же свободную неделю я поехал в Беларусь. Добравшись до Могилёва, я взял билет на Краснополье. И здесь же на автовокзале неожиданно встретил Саньку Дылдина, Царского палача. Он очень изменился, постарел, пополнел и, как мне показалось, даже стал ниже. Первым он меня узнал. Замер, широко вытаращив глаза. А потом удивленно сказал:
– Вы же уехали в Америку?!
– Уехали, – успокоил я его. – А вот теперь приехал в гости.
– К кому? – спросил он.
– Ко всем, – сказал я.
– В Краснополье едешь? – спросил он.
– Да, – сказал я.
– На какой рейс? – поинтересовался он.
– Сейчас, – сказал я, и он обрадовался:
– Значит, на моём автобусе. Я шофёром работаю на междугородних рейсах, – он ещё раз внимательно посмотрел на меня и восхищенно сказал: – Глазам не верю, что это ты! Тебя не узнать – настоящий американец. Небось, по-английски шпаришь лучше нашей Марии Яковлевны?
– Шпарю, – признался я.
– А из нашего класса в Краснополье я остался один. Женился, пацана уже имею. В общем, старею, – сказал Санька и вздохнул почему-то.
– А ты знаешь, где кто? – спросил я.
– Откуда я знаю?! – развел руками Дылдин. – Знаю только, где Царь. Не поверишь, когда услышишь!
– Почему не поверю? – сказал я.
– А потому что он в Германии. Женился на еврейке из Кричева и укатил с ней в Дюссельдорф, – Санька вдруг стукнул себя по лбу и сказал: – тараторю с тобой полчаса, а у кого собираешься остановиться, не спросил.
– В гостинице, – сказал я.
– Никаких гостиниц, – сказал Санька. – У меня остановишься. Кстати, ты мою жену знаешь, вашей соседки Карповны дочка.
Мы говорили с Санькой до самого отхода автобуса, потом он посадил меня на приставное сиденье возле себя, и мы продолжали разговор до самого Краснополья. Говорили обо всём, но главный интересовавший меня вопрос я всё отодвигал и отодвигал на потом, боясь получить не радостный для меня ответ. Но перед самым Краснопольем, когда уже проехали льнозавод, я не выдержал и спросил:– А ты не знаешь, где Даша?
Санька удивленно посмотрел на меня и сказал:
– А я думал, вы переписываетесь? Хотел только что про неё у тебя спросить.
– Я не знаю, где она, – сказал я.
– Они уехали через несколько месяцев после вас, – сказал Санька. – Её родителей перевели куда-то в Гомельскую область. Она всем говорила куда, но убей меня, я не помню... Вот и всё, что я знаю, – сказал он и виновато развёл руками.
– И никто не знает? – переспросил я.
– Никто, – сказал Санька.
И мы начали говорить о чём-то ином. Потом мы ещё долго говорили у Саньки на кухне за бутылкой смирноффской водки, я слушал его, о чём-то говорил сам, но мысли кружились вокруг Даши, как бабочки вокруг свечи, и, натыкаясь на пламя, сгорали, обжигая меня. А потом, под утро, Санька сказал:
– А Царь хвалился, что это его маманя перекинула Дашкиных батьков поглубже в радиацию. Чтобы Советскую власть уважали! – Санька закурил, затянулся, выпустил ровное круглое кольцо из дыма, какое в школе умел делать только он, и, выругавшись, сказал: – дураки они! Больше радиации, чем в нашем Краснополье, нигде нет!
Я не знал, что мне делать дальше. Утром Санька взял мне билет на трёхчасовой рейс на Могилёв. Я привез целый чемодан сувениров для знакомых, но из знакомых в поселке остался лишь Санька, и я весь чемодан оставил ему. Оставил себе только Барби.
ЛЕГЕНДА О ПОСЛЕДНЕМ КРАСНОПОЛЬСКОМ ЕВРЕЕ
Санька утренним рейсом поехал на Костюковичи, а я пошл на кладбище. Убрал могилы, все подряд, ибо я не знал, где точно лежат мои бабушки и дедушки. Папа мне объяснял перед отъездом, но на заросшем травой кладбище трудно было что-то отыскать. Убрав всё, что смог, я сел передохнуть на огромный валун, что лежал у кладбищенской ограды. Я сидел задумавшись и не заметил, как ко мне подошел человек.
– Устали? – спросил он.
Я поднял глаза: возле меня стоял пожилой седой мужчина в клетчатой фланелевой рубашке и потёртых джинсах.
– Устал, – честно признался я.
– Давно сюда никто не приходил, – сказал мужчина и внимательно посмотрел на меня. – Вы случайно не внук Эты-белошвейки?
– Внук, – кивнул я.
– Вы случайно не из Америки? – спросил мужчина.
– Случайно, да, – улыбнулся я и сказал: – я пытаюсь вспомнить вас и не могу: не узнаю.
– А откуда вам меня знать, – сказал мужчина. – Когда вы уезжали из Краснополья, в поселке было абисалэ идн (немножко евреев) и не было меня. А сейчас здесь нет ни одного еврея, и есть я.
– Раз вы есть, значит, есть евреи, – заметил я.
– Я – это другой вопрос. Я не просто еврей, а Последний Еврей Хаим Рабинович.
– Я знал здесь Рабиновичей, – сказал я. – Вы случайно не их родственник?
– В каком-то смысле да, а в каком-то нет, – сказал мужчина. – Я Рабиновичам такой же родственник, как и вам. Я Хаим, потому что все евреи Хаимы, и Рабинович по той же причине. А отчество, конечно, Соломонович. Это вам о чём-то говорит?
– Нет, – сказал я и с любопытством посмотрел на мужчину.
– Тогда я вам объясню, – сказал мужчина. – Когда Бог разбросал евреев по всему миру, он сказал всем живущим: не гоните этих людей от себя. Разрешите им жить с вами. Ибо пришли они к вам не по своей воле, а по моей. И с ними пришло на вашу землю благословение. А если уйдут они с вашей земли не по своей воле, а вами гонимые, то навеки уйдёт благодать от вас. Только не все эти слова сердцем слушали.., – вздохнул мужчина, пот со лба утёр. – Где евреи ушли гонимые, где по своей воле края покинули. И решил Бог в тех местах, откуда по своей воле ушли евреи, поселить Последнего Еврея. Пока память в тамошних людях о евреях жива, живёт в их краях Последний Еврей, а с ним и Божье благословение. Вот я и есть Последний Краснопольский Еврей. Живу, чтобы здесь земля родила, чтобы счастье в дома заходило... Так что я родственник всех здешних евреев! Всех их знаю, про всех помню. И вашего папу знаю, и вашу маму помню. И знаю, что на врача вы учитесь. Ваша бабушка не поверила бы, что внук её доктором будет! – мужчина хитровато посмотрел на меня и сказал: – Чувствую, что вам хочется о чём-то спросить старого Хаима. Так вы спрашивайте, не стесняйтесь. Рабинович много чего знает!
И я спросил про Дашу.
Мужчина прищурил глаза, как будто попытался что-то посмотреть вдали, помолчал минуту, а потом сказал:
– Она далеко отсюда. И даже дальше, чем вы думаете. Вы, конечно, знаете такой город Тель-Авив?
Знаю, – сказал я.
– А вы знаете там Шалом Тауэр? Конечно, не знаете. Но если от него идти прямо, а потом направо, а потом опять прямо, и зайдете за угол, то попадёте как раз туда, куда вам надо. Она в госпитале.
– В госпитале?! – вскрикнул я.
– Не волнуйтесь. Я вижу немножко дальше, чем вы, и я вам скажу, что впереди всё хорошо. Хотя где вы встречали еврея, у которого всё хорошо? Я вижу, вы готовы лететь в Тель-Авив прямо из Краснополья. Но я вам скажу, пока такого рейса не имеется.
Мне хотелось чем-то отблагодарить мужчину, и я спросил:
– Может, я могу вам чем-то помочь? У меня есть доллары.
– У него есть доллары? Он Ротшильд! Молодой человек, поберегите эти деньги для себя. Они ещё вам пригодятся. А я, слава Богу, имею ещё здоровье и имею приличную работу.
– Кем вы работаете? – спросил я.
Мужчина удивлённо посмотрел на меня:
– Я же вам полчаса говорю, кем я работаю, а вы все ещё меня спрашиваете? Повторяю: я работаю Последним Евреем! Кем ещё может работать Хаим Рабинович!
Потом он вдруг стукнул себя по голове:
– До отхода вашего автобуса осталось полчаса, и ваш знакомый ищет вас по всему Краснополью, вон он уже спешит сюда, как Моня на хупу, – и мужчина показал на приближающийся старенький «Пазик».
Санька резко развернул машину возле нас и, притормозив, сказал:
– Здравствуйте, Хаим Соломонович! Извините, забираю Даника. Его автобус через полчаса уходит. Может, вас до центра подбросить?
– Спасибо за хорошие слова, но мне спешить некуда, – сказал мужчина. – И, вообще, в моём возрасте полезно ходить пешком.
По дороге до автостанции я спросил Саньку про Рабиновича.
– Умный мужик, – сказал Санька, – во всём мастер, и плотничает, и сапожничает, и костюмы шьёт, и в машинах разбирается. Я как-то ехал с ним из Почепов, и мотор заглох. Полчаса я возился, и ни с места. А он с минуту покопался в нём, и мы поехали. Я как-то ему говорю, все ваши из Краснополья уехали, а вы, наоборот, приехали. С чего это? Так он шуткой отговорился. Говорит, в каждом посёлке надо одного еврея держать, чтобы не забыли, как евреи выглядят.
ДАША
Я весь день ждала, что Алик перезвонит. Но он не позвонил. Несколько раз звонила бабушка. И больше никто.
Я долго не засыпала. А потом где-то под утро задремала. Проснулась от прикосновения. Подумала, что медсестра принесла таблетки. Медленно открыла глаза и увидела Даника. Он держал в руках Барби. И первое, что я сказала ему:
– Ой, Даник, какой ты стал высокий!
Не знаю, почему я это сказала.
Он улыбнулся мне и сказал:
– До тебя старался дотянуться!
Я протянула к нему руки, и он обнял меня. И я прижалась к нему и заплакала.
От счастья тоже плачут
|
| |
| |
| Рыжик | Дата: Пятница, 08.09.2023, 07:08 | Сообщение # 592 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 299
Статус: Offline
| ПОВОД
— Завтра вызывают в школу! — жена бросает сумку и устало садится на лавку в прихожей.
— Что случилось?- спрашиваю.
— Твой сын опять провинился!!!
Я улыбаюсь. У нас давно так: всё хорошее у детей от неё, всё плохое — от меня. Не сопротивляюсь. Некоторые их «недостатки», напротив, считаю достоинствами. Сажусь с ней рядом. Она кладёт голову на плечо.
— Зинка звонила. Говорит, он какое-то мусорное ведро выкинул из окна школы прямо на улицу!
«Зинка» — директор школы.
— Может, ты сходишь?- она жалобно смотрит мне в глаза.
— Конечно схожу! — соглашаюсь я.
Это месть: два месяца назад директриса сделала промах, также вызвав жену в школу. Но пришёл я. Случай был неординарный. Из ряда вон.
Я был огорчён, разозлён и расстроен поступком своего 15-летнего сына. Он хотел сделать фейерверк из оставшихся с Нового года петард и пронёс их на дискотеку в школу. Хорошо, что дежурившие преподаватели вовремя заметили и изъяли...
Зинаида Павловна оставила меня на растерзание завучу. Я не сразу признал в ней руководителя. Маленькая, серенькая, в непонятной одежде, говорит несвязно. Мне она больше напомнила техничку.
После почти часового допроса с одним-единственным вопросом «Вы представляете, что было бы, если бы он его взорвал?» я не выдержал и сам вызвал в школу оперативную машину с надписью «Разминирование».
Это ЧП. Ситуация пошла по непривычному сценарию. Такое не прощается.
Это должна была быть первая наша встреча. Мы не встречались с ней до этого раза. Она не знала об этом, и за мной было преимущество.
Мы с сыном проходим в директорскую. Останавливаю его в секретарской и вхожу в кабинет.
Там сидят человек 5. Сама Зинка стоит. Увидев меня, удивляется, но не подаёт вида. Даже улыбается холодной улыбкой. Я представляюсь. Очень любезно здоровается и просит меня пригласить сына, почти приказывает:
— Приведите, пожалуйста, сына сюда!
— Зачем? — удивляюсь.
— Затем, чтобы мы послушали его и он рассказал нам, как он мог совершить такой гнусный проступок! — она недовольна и начинает злиться. Обычно вопросы задает она.
— Он никуда не пойдёт. Я пока не знаю, что именно он совершил. Давайте, пожалуйста, без ваших вердиктов, — беру ситуацию в свои руки. Не люблю, когда мне указывают, что делать. Я уже послушал его версию. Теперь вы мне расскажете, что произошло.
Зинка как будто не слышит меня:
— Пригласите, пожалуйста, вашего сына сюда и присаживайтесь сами! — подталкивает мне стул.
Я закрываю дверь. Сын остается в секретарской.
Мне знакома эта ситуация.
Пришлось побывать на таких судилищах. С тех пор ненавижу подобные собрания и организовывающих их людей.
Зинка слабый человек. Таким нельзя доверять власть. Тем более власть над детьми. Представляю, сколько судилищ было в её кабинете. Сколько сломанных детских душ вышло отсюда. А главное, преданных собственными родителями.
Я хорошо знаю этот метод. Человека заводят и ставят перед всеми. Он уже обвинён. Приговор давно вынесен такими «зинками». Но весь интерес в другом: нужно растоптать человека. Нужно сломать и уничтожить, чтобы он больше никогда не поднял голову против системы...
Судилище маленького человека. Который не научился ещё себя защищать. И для этой цели приглашают родителей. Их сажают специально рядом с собой, прямо напротив их собственного ребёнка. Потом начнётся допрос.
И на каждый ответ директриса будет смотреть в глаза родителям:
— Вот видите! Посмотрите на него!
Как такое вообще могло прийти в голову?! И родители послушно будут кивать головой, соглашаясь. Соглашаясь, они совершают предательство. Злой гений Зинки торжествует.
Как ещё больнее можно предать ребёнка, как ни тем, что самые родные ему люди прилюдно отказываются от него?
Я принципиально не сажусь на стул. Хочу дать понять, что для меня это дело не стоит выеденного яйца и у меня нет никакого желания сидеть тут и обсуждать моего сына.
— Вы пригласили меня в школу — я смотрю прямо ей в глаза. — Будьте любезны, объясните мне причину вызова.
Зинка теряется и ничего лучшего не находит, как опять попросить пригласить сына в директорскую. С ней всё понятно. Я продолжаю шоу.
Поворачиваюсь к классной руководительнице и спрашиваю её о случившемся. Она ёрзает на стуле и нервно выкрикивает мне:
— Я попросила его выбросить мусор! Он отказался, и я его заперла в кабинете! Он выбросил мусор в окно!
Я оглядываю всех.
— По какому праву вы запираете моего сына в кабинете?!
Учительница хлопает глазами. Я начинаю злиться.
— Почему мой сын должен выносить мусор в школе?! — я перевожу взгляд на Зинку. — У вас тут что, тюрьма? Может, прислать комиссию в школу? Может, у вас для этого нет уборщицы или кто-то получает деньги по фиктивной подписи?
— Может быть, мы всё-таки послушаем версию вашего сына?! — раздаётся голос единственного молодого мужчины. Это прогиб. Перед Зинкой. Он молод, как потом выяснилось, баллотируется в депутаты. Знаем мы таких депутатов.
— Вы кто?! — спрашиваю его.
— Я учитель этой школы!
— Какое отношение вы имеете к моему сыну?!
Он теряется и беспомощно крутит головой.
— Я в комиссии! В педсовете! — находится он.
— Тогда давайте пригласим моих и его друзей. Его тренеров из спортшколы, соседей по дому. Это будет мой педсовет. И тогда мы послушаем всех.
Все приутихли.
Я обращаюсь к Зинке:
— Судилище хотели устроить? Не получится. Даже не пытайтесь. Я хорошо знаю законы. Даже в вашем законе, в школьном, нет таких правил! Не ведите себя как собственник этого заведения! Вас наняли, вот и учите! А воспитывать будем сами, без вас!
Я хлопаю дверью. Шах и мат.
Обнимаю сына, и мы идём с ним домой.
— Жизнь такая, сынок. Они теперь будут ловить тебя на промахах, чтобы припомнить обиду!
— Я обещаю, пап, что больше тебя не вызовут в школу!
— Это чепуха. Найдём другую...
Я рад этой ситуации. Она позволила мне защитить своего ребёнка. Она важна для нас обоих...
Слово он сдержал. До конца обучения нас больше в школу не вызывали.
Вся школа завидовала ему. А всего-то и нужно было не предавать и защитить своего же ребёнка..
P. S. Так кто же здесь прав? На чьей же стороне эта правда?
Автор: Рустем Шарафисламов
Сообщение отредактировал Рыжик - Пятница, 08.09.2023, 07:17 |
| |
| |
| papyura | Дата: Четверг, 14.09.2023, 17:57 | Сообщение # 593 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1552
Статус: Offline
| Зеркальный рассказ
Я солдат.
Я знаю, что такое смерть, в прошлой операции бандиты убили двоих моих товарищей.
Я должен наверное ненавидеть всех их, потому что почти из каждого окна в нас стреляли. Что поделать, таких соседей послали нам Небеса.
Но нужно оставаться человеком, потому что… просто потому что так надо. И я знаю, что семена любви и человечности рано или поздно прорастут...
Сегодня я вышел на окраину лагеря на дежурство. По инструкции, любого, кто подойдет к лагерю ближе чем на 30 метров я должен остановить, если необходимо, то выстрелом.Но к лагерю подошла девчонка, чумазая как и все они здесь, в пустыне. На вид ей было лет 10-12.
Я никогда не видел таких глаз, огромные, в пол-лица глазища, чёрные и бездонные. Такие бывают только у детей. Взгляд был диковатый, но какой-то насмешливо-лукавый.Она показала мне рот, потом на мусорный бак. Я понял, она голодна и хочет покопаться в мусорном баке, чтобы забрать наши объедки. Её грязная ручонка, как ни странно сделала жест, я бы сказал, исполненный грации, совсем не похожий на движения нищих на наших площадях.
Нет, в ней было какое-то дикарское благородство, заставившее меня вспомнить прочитанные в детстве книги Фенимора Купера.
И мне стало стыдно.
Мы взрослые играем в наши взрослые игры, а страдают вот эти невинные детки. Она мотнула головой, её волосы рассыпались дикими прядями по плечам, она что-то сказала на своём языке, которого я не понимал. Я показал на себя и сказал «Рони». Это моё имя. Она ткнула в себя и сказала «Амина». Вот и познакомились.
Я сделал успокаивающий жест, попросил подождать. Она не поняла слов, но, как видно, поняла интонацию.
Через минуту я возвращался с едой из своей сторожки. Я вытащил ей свой дневной паёк, а заодно то, что сам беру с собой на дежурства перекусить: колбасу, крекеры, колу. В полдень придут ребята, принесут с собой что-нибудь, с голода не помру.
Амина улыбнулась и взяла то, что я ей протянул. Потом наши глаза встретились и я увидел как потеплел её взгляд, она что-то снова сказала на своем языке...
Нам не нужен был переводчик, люди всегда могут понять друг друга, если того хотят.
Я ответил ей на моём языке «на здоровье, прибегай ещё».
Я знаю, что нас настраивают друг против друга, но этот ребёнок — такой же ребёнок, как моя младшая сестрёнка, точно так же любит сладкую шипучку и печенья, точно так же хочет жить в мире. И наше сегодняшнее общение западёт ей в голову, она поймёт, когда вырастет, что мы с ней никакие не враги, мы просто люди, и не важно, какой мы национальности, расы, религии и какую форму надеваем...
****
Я подошла к вражескому лагерю, брат сказал, что меня не тронут, даже если поймают и я прекрасно смогу разузнать, сколько там в сторожке человек дежурит.
Ой, я сказала человек? Зверей, конечно.
А если и тронут, то пусть, я не боюсь, стать мученицей за свой народ и свою веру — о чём может ещё мечтать человек?
Он меня остановил, эта сволочь в зелёной униформе. Но он узнает, что наши девочки не слабее наших мальчишек. Я выдержу, я попаду в рай.
Я сказала ему, что не боюсь его, и показала на голову и на мусорный бак: твоя голова будет валяться в помоях.
Потом этот трус вынес мне еды...
Папа часто говорил, что они нас боятся и пытаются задобрить своими подачками. Не нужно бояться, нужно брать, они обязаны нам всем, пусть платят дань, пусть трепещут.
Я взяла еду и смело посмотрела ему в глаза. Напоследок я ему сказала:«Когда я вырасту, я тебя убью».
Он что-то пролепетал в ответ на своем собачьем языке...
Рошель Касоб
|
| |
| |
| KBК | Дата: Четверг, 21.09.2023, 15:52 | Сообщение # 594 |
 верный друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Статус: Offline
| Я не люблю Тель-Авив. Это моё личное, понимаю что это полная глупость. Что есть на свете огромное количество людей, которые готовы платить сумасшедшие деньги в этом городе.
За всё. Чтобы жить там, чтобы пить там кофе, чтобы тусоваться вечером на бульварах и приехать на велике или самокате на тель-авивский пляж...
Это интересно, модно и важно. Им. Центр жизни. Быть в центре вечного круговорота в городе,
который никогда не спит. Не понимая этого - принимаю с уважением. Или без него, но для них это, я уверен, никакого значения не имеет. Им нравится, более того они обожают эту атмосферу.
Я стараюсь туда не попадать. Пробки, суета и ритм жизни - не располагают меня к гармонии.
Ну а если заносит меня судьба по её воле туда, стараюсь побыстрее оттуда убраться.
В один из вечеров, назначена мне была встреча с одним из моих зарубежных коллег.
Кафе на Дизенгоф. Хуже места для деловой встречи не придумаешь даже специально. Парковки рядом нет, из любого места добираться чёрт знает сколько времени, пробиваясь через вечные, безумные пробки этого города.
Приехав заранее и потратив кучу времени, чтобы пристроить машину - я уселся в этом баре. Там было двое чужих . Один выпив пива, вскоре ушёл. Все остальные знали друг друга, я в этом убедился через короткое время...
Мест не было, пришлось сесть за бар. Бармен через галдеж публики спросил меня, как и принято у нас - без лишних экивоков -"что тебе, братишка?"
Я сказал кофе двойной и он параллельно ведя беседу с одной из посетительниц - умело делал мне эспрессо.
Я рассеяно разглядывал посетителей в зеркало, сидя к ним спиной и от нечего делать - рисовал себе их портреты.
Вот парочка девиц, лесбиянки. Та явно ведущая, ишь как вторая гладит ей руку, рассказывая что-то при этом. Несколько одиночек, уткнувшись в свои компьютеры пишут какую то работу. Судя по возрасту - университетскую. Два мужика, почтенного уже возраста - пьют пиво. Вот пришёл третий, такой же. Явно ветераны какого то подразделения, служили вместе. Или коллеги бывшие ...
Какая мне разница, собственно?
Несколько парочек, тихо беседующих между собой. Романтическое свидание, точно.
Оглядывая незаметно их, я почувствовал , что мне что то мешает. Знаете, бывает так. Ощущение непонимания момента. Вроде всё как обычно, но что то не так. Что же я заметил, но не понял ...
Бармен ловко поставил передо мной кофе, положил салфетку и рядом, не спрашивая, стакан холодной воды.
Чисто автоматически наблюдая за ним, я охренел. У него не было руки . Ну как не было ...
Там, где у человека рука - у него был протез. Причём он уходил вверх, под майку с короткими рукавами.
Заметив мой взгляд, он улыбнулся и подмигнул мне.
- Всё в порядке ? Десерт хочешь ?
- Нет, нет спасибо - растерянно ответил я.
Стало неловко и я пытался всё время сфокусировать свой взгляд на чём-то другом, кроме этого чёртового протеза. А куда смотреть? Он прямо передо мной...
Наконец бар заполнился окончательно, мест больше не было. Бармен обслужив всех - присел на высокий табурет, принял позу леопарда в засаде. Вот он сидит и всегда готов к прыжку.
Вытащил телефон и начал там что-то писать.
Я очень аккуратно, не хотя его обидеть - наблюдал за этим.
Вдруг он опустил телефон и глядя мне точно в глаза сказал
- Ты ведь здесь впервые ? Остальных я вижу почти каждый вечер. Знаю, что ты хочешь спросить . Почему, зачем и как ?..
-Ну не то чтобы, в принципе да, хотелось бы понять и услышать ... Растерянно проблеял я.
- Всё просто. Руку мне оторвало в армии. Граната Хисбаллы. Служил я в Маглане. Прошёл спецкурс . Хотел военную карьеру строить. Слышал про нас ?
-Конечно, слышал.
- Ну вот, продолжал он, протирая бокалы и развешивая их.
-Потом больница, курс лечения протезирование, психиатр, психолог. Посттравма, сам понимаешь.
Дали пенсию. Начал привыкать к новой жизни. А потом очень уж плохо мне стало.
Один, мне всего 27, профессии нет, как таковой . Ну я и решил. Попробовать...
Это сначала было трудно. А теперь сам видишь. Они меня лечат.
- Кто ? Огляделся я на жест протеза.
- Они. Вы. Вот вы приходите, сидите тут почти до утра. Болтаете между собой . Общаетесь со мной. И работы полно - сам видишь. Мне нравится. Правда, нравится. Я спать стал нормально. Прихожу под
утро и, как убитый сплю. В университет открытый поступил.
- А как же ты работаешь, с инвалидностью такой ? Ну это же незаконно ?
- А я отказался от выплат. Меня даже в новостях показывали два раза. Не верили. Как можно отказаться от денег, что платит Министерство Обороны ?
Я так и сказал - по другому мне не выздороветь никогда...
Я ошарашенно продолжал слушать.
Дверь в баре отворилась и в него зашла, вернее даже не зашла, а впорхнула девушка. Подбежав к стойке, она через неё чмокнула нашего бармена и через секунду встала рядом с ним.
- Познакомься, это Алин, моя девушка. Мы живём тут рядом и работаем вместе тоже .
- "Он тебе уже показывал однорукого бандита ?" спросила меня она .
- Нет, мы просто разговаривали.
-Ну покажи. Покажи, он же не знает этот фокус.
Она встала напротив него и бар, видимо зная что будет развернулся в нашу сторону.
Он поднял обе руки и Алин набрав полный рот шампанского, вдруг взяв его протез - резко дернула его вниз . Как в игровом автомате.
Однорукий бандит, подумалось мне. Точно.
А потом вдруг прижалась к нему и они слились в поцелуе. Он пил её шампанское. Из неё .
Все, кто был в этот момент в баре, восторженно взвыли и зааплодировали. Свист, рёв и крики браво звучали несколько минут...
Они комически и шутливо раскланялись и обнялись ещё раз.
"-Это было шоу специально для тебя, остальные его уже видели и не раз" -сказала она и широко улыбаясь посмотрела на меня. Красивая, молодая девчонка. Смотрела на меня и один глаз её был вставным. Сразу это было нельзя заметить, но всмотревшись я понял: он не двигается.
И бармен, поняв это, наклонившись ко мне - тихо сказал, перекрывая шум и гам в баре:
-Она была связисткой. Не в нашем отряде. Осколок. Просто повезло, что осталась жива. Она крутая. Ну вот так... мы встретились совсем случайно. Здесь.
Я смотрел на эту пару и понимал. Что я за всю свою жизнь и за тот период, что мне остался - никогда не проживу то, что прожили они за свою молодую короткую жизнь. Какой ужас, думал я. И как же здорово, что они вместе. Улыбаются, радуются и не унывают. Брать с них пример? Да как же брать, если во мне нет и сотой доли той жизнерадостной энергии и любви к жизни, что есть у них ?
Любой другой бы на их месте ...
Она позвонила в колокол, висящий на стойке.
- А сейчас вот этот господин хочет всех вас угостить, громко завопила она, указывая на меня.
И бар взорвался аплодисментами. Я широко улыбаясь, закивал. Она, да нет, они оба, поделились со мной праздником.
Никакой встречи в этот вечер у меня не состоялось. Партнёр, что летел через Израиль, неожиданно опоздал на рейс. Я не расстроился. Вообще .
Я сидел там до последнего посетителя и просто наблюдал за ними.
Любовь летала на стойкой. Настоящая любовь. Она была во всём. В их взглядах, шутках, в том как они перемещаясь за этим баром прижимались друг к другу. Передавали друг другу что то из рук в руки. Любовь и секс были в их смехе, улыбках и она мягкой волной покрывала этот небольшой бар.
Я не очень люблю Тель-Авив. Видимо потому, что попросту не знаю его. Жаль.
@Лев Клоц 15.08.23 Израиль.
Авторское свидетельство N 2257900/3
|
| |
| |
| несогласный | Дата: Вторник, 10.10.2023, 16:53 | Сообщение # 595 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| Он просто влюбился в женщину по её письмам. Он не знал, кого увидит при встрече на Центральном вокзале ...
Джон Блэнчард посидел на скамье, затем встал и поправил свою армейскую куртку. Он пришёл, чтобы встретиться с девушкой, в которую как ему казалось был влюблён. Знаком, по которому он должен был её узнать, была роза.
А заинтересовался он этой особой, когда посетил библиотеку штата Флорида. Там, взяв в руки книгу, увидел заметки на полях, сделанные карандашом.
Джон понял, что у этого человека богатый внутренний мир и острый ум, и ему понравилась душа этого человека. На одной из страниц он увидел имя. Холлис Мэйнел оказалась предыдущей владелицей издания.
Блэнчард приложил немало усилий, чтобы разыскать женщину. Оказалось, что она была жительницей Нью – Йорка. Молодой человек начал вести с ней переписку. Так продолжилась их дружба...
Затем он был вынужден поехать по службе за границу. В течение года переписка между ними продолжалась. Эти двое узнавали друг о друге всё больше. Чувства их становились сильнее. Это было началом любовных отношений.
Когда мужчина попросил выслать, ему фотографию, Холлис не согласилась сделать это. В письме она заявила, что если чувства сильны, внешность человека не должна играть никакой роли.
Джон должен был вернуться домой и они договорились, что встретятся на вокзале. Девушка сообщила, что прицепит на лацкан пиджака красную розу. По этому предмету моряк должен был узнать её.
Вокзал. Семь часов утра. От волнения, молодой человек не мог найти себе места и всё думал о том, какая внешность у девушки?
Он увидел, как к нему подходит красивая стройная блондинка, с небесно-голубыми глазами. Её светло-зелёный костюм, делал её образ похожим на весну. Увидев красавицу, Джон к ней подошёл. Ему было не до розы!
Девушка иронично улыбнулась и сказала:
– Я пройду, если вы не возражаете.
Когда красотка прошла вперёд, за ней Блэндчард увидел автора писем и онемел…
Женщина, на пальто которой красовалась роза, оказалась зрелой дамой, лет за 40, полной. Её очень толстым ногам, было тесно в туфлях. Седые волосы нетрудно было разглядеть под старенькой шляпой.
А девушки уже не было видно.
Моряка одолевали двойственные, сильные чувства. С одной стороны, ему показалось, что он влюбился в белокурую красавицу в зелёном костюме, и хочет отправиться на её поиски, немедленно.
С другой стороны, он помнил, какие сильные чувства испытывал, когда переписывался с Холлис, и каким родным человеком, она за год стала для него.
И тут мужчина принял решение. Он крепко сжал копийный экземпляр книги, из-за которой они познакомились с Холлис. Он понял, что ничто не может быть важнее настоящих, искренних чувств. Да, внутри он был сильно разочарован внешностью дамы, но что поделать…
Представившись даме, он спросил:
– Вы – Холлис Мэйнел? Хорошо, что я вас всё-таки, встретил. Можно с вами поужинать?
Дама улыбнулась:
– Морячок, ты ошибся. Девушка, которую ты только что встретил, дала мне розу и попросила к плащу её прицепить. Она сказала, если ты меня куда-нибудь пригласишь, я должна буду сообщить, что она ждёт тебя в кафе, напротив... ...
Сообщение отредактировал несогласный - Вторник, 10.10.2023, 16:57 |
| |
| |
| Рыжик | Дата: Пятница, 17.11.2023, 10:48 | Сообщение # 596 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Котёночек
Смеркалось…
«Всё могут короли, всё могут короли!» – самодовольно мурлыкал себе под нос Максим Эдуардович Король, постукивая в такт пальцами по рулю. Он привычно ощущал себя триумфатором. Лишь две недели назад в офисе появилась Катя – стройная блондиночка с бездонными голубыми глазами, и вот Максим уже катит на романтическое свидание в её «гнёздышко» – так призывно-кокетливо называла она свою двушку в обшарпанной хрущёвке.
Две недели Король орлом кружил вокруг её стола, кося глаз на зеркало, отражавшее его дорогие костюмы, спокойно-уверенные жесты, ухоженное, лощёное лицо и тщательно закрашенную седину. И вот – получите и распишитесь!
«В этой незатейливой личности одни плюсы – размышлял Максим Эдуардович о Кате – чувственна, глупа, а главное – замужем».
Сладкие мысли прервал звонок.
– Милый, всё пропало! – тарахтела Катя – Муж будет здесь с минуты на минуту! Милый…
– Как?! – взревел Король сиреной тонущего «Титаника» – Он же должен был всю ночь подменять кого-то там…
– Что-то изменилось, он только что позвонил…
– Ладно, увидимся на работе. Пока! – зловеще оборвал её Максим Эдуардович.
Он свернул к парковке супермаркета. Вышел из машины, закурил. Всё вокруг вдруг потеряло краски, выглядело серым и унылым. Король вытащил припасённый букет и с отвращением метнул его в урну. В ответ мусорник издал звонкий металлический звук. Эдуард Максимович удивился, но не придал этому значения – голова была занята другим. «Вот же дура! Всё у неё через жопу!» – подумал он и повторил вслух: «Дура!»
– Сам дурак! – откликнулась скрипучим голосом хромавшая мимо косоглазая женщина средних лет.
Король с ненавистью прицельно плюнул ей вслед. Плюхнулся в машину, поехал домой. Уныло поднялся на третий этаж. Обшарил все карманы – ключей не было.
Только теперь Максим Эдуардович разгадал секрет музыкальной урны: вместе с букетом он случайно вышвырнул связку ключей. «Просто инженер Щукин какой-то» – усмехнулся про себя и зло ткнул в кнопку звонка.
Смеркалось…
Звонок задребезжал в самый неподходящий момент. Федя Птичкин вздрогнул, подпрыгнул на кровати и зашипел в оказавшееся рядом ухо Леночки:
– Это ещё кто? Муж?!
– Не может быть! Я же говорила: он в Москве, важные переговоры – неуверенно пролепетала Леночка, впала в дрожь и зачем-то поправила серьги.
Звонок понадрывался и сменился стуком, переходящим в рёв Максима Эдуардовича:
– Лена в чём дело?! Открой, наконец!
– Включи душ, быстро всё прибери и беги под воду. Скажешь, что в ванной не слышала звонка – Фёдор метнулся к балкону, натягивая на ходу штаны и сгребая в охапку остальную одежду...
Ловко перебрался на соседний балкон. Почти без издержек: царапина на руке и зацепленный горшок с геранью. Горшок со свистом рухнул вниз и угодил в стаю кошек, собранных на кормление сердобольной бабой Настей. Кошки заверещали, баба Настя взвыла тоном ниже.
Смеркалось… Свидетелем кошачьей трагедии оказался интеллигентный дворник Ипполит, гордившийся своим дворянским происхождением, знанием французского и допотопным пенсне. На все случаи жизни у него были цитаты из Саши Чёрного. На этот раз он изрёк:
А кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орёт…
Смеркалось…
Федя перекрестился, глубоко вздохнул и спрыгнул с балкона. Пролетая мимо окна второго этажа, Птичкин приметил в проёме пышные усы. Усы встопорщились, разверзлись и изрыгнули вопль:
– Вах! Мэрзавка! Притворялась вэрной жэной! А кто эта пратался за окном?! Лубовник?! Зарэжу!
Жена ревнивого обладателя усов, совсем не заслужившая судьбы Дездемоны, залепетала что-то в оправдание. Но муж уже рванулся на кухню за ножом, который почему-то гордо называл кинжалом.
Смеркалось…
Поравнявшись с окном первого этажа, Птичкин встретился взглядом с алкашом Васей. Тот высунулся наружу и подначивал:
– Правильно, Резо! Все бабы такие! Режь, не стесняйся!
Довольный ходом событий, Вася икнул и возбуждённо потёр впалую грудь, украшенную татуировкой «Не забуду мать родную».
Смеркалось…
Федя группировался и старательно прицеливался в центр взрыхлённой цветочной клумбы. В следующее мгновение Птичкин окунулся в жёсткие объятия родной землицы, зацепив ненароком кошек, увернувшихся от горшка с геранью. В один аккорд слились кошачий визг, новый вопль бабы Насти, протяжный стон Птичкина и хруст сломанной берцовой кости.
Дворник Ипполит склонился над Фёдором и участливо поинтересовался:
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?
В монолог вмешалась плетущаяся с работы учительница Наседкина, закоренелая старая дева и ярая мужененавистница. Саши Чёрного в школьной программе не было, а ей был роднее Буревестник Революции. Строгим педагогическим голосом Наседкина презрительно проскрипела:
Рождённый ползать – летать не может!
Дворник учительницу не любил. За вредность. Выждав, пока Наседкина удалится на безопасное расстояние, он разразился риторическим вопросом:
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!)
Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?
Смеркалось…
Привлечённый шумом во дворе, Максим Эдуардович выглянул в окно, уставился на распластанного Птичкина.
– Это ещё что такое?
– Хе-хе, это любовник Нинки из 36-й квартиры – радостно отозвался с первого этажа алкаш Вася – Сиганул с балкона, понимаешь, а Резо Нинку щас резать будет!
Проникнувшись к Птичкину мужской солидарностью, Максим Эдуардович набрал номер «скорой».
Смеркалось…
Врач линейной бригады Таня Птичкина призывно косилась на реаниматора Щеголькова. Глаз на него Таня положила из чувства мести – муж Фёдор совсем охладел к ней и, по всем признакам, завёл любовницу. Таниных флюид реаниматолог не улавливал, сосредоточенно сопел над очередным кроссвордом.
– Щегольков, налить тебе кофе? – ласково промурлыкала Птичкина, игриво изогнув стан. Тот вяло повернулся к Тане.
– Спасибо. Я уже три чашки выпил. Он бесстрастно глядел на Таню своими прозрачными, рыбьими глазами, сосредоточенно отгадывая областной центр в Сибири на пять букв.
Она же, лакировщица действительности и фантазёрка, придумав в его взгляде теплоту и заинтересованность, нырнула в омут романтических мечтаний. Птичкина представляла прикосновение его нежных рук, сгорала от жара воображаемых любовных объятий, томилась переполнявшей её негой. Из сладостных грёз Татьяну вырвал дребезжащий голос диспетчера в динамике:
– Шестая на выезд. Повторяю, шестая на выезд.
Тяжело вздохнув, она двинулась к дверям.
– Вымирающее млекопитающее, восемь букв… – промычал за спиной реаниматолог.
– Щегольков, вымирающее млекопитающее – это я – буркнула Татьяна не оборачиваясь.
В коридоре её уже поджидал фельдшер Коля.
– Мужчина, падение с высоты – обречённо прогундосил он – опять надрываться с носилками...
Смеркалось…
Под вой сирены «скорая» влетела во двор. Татьяна вышла из машины и обомлела: в окружении зевак на земле распластался её законный супруг Птичкин.
– Федя, ты как здесь…
Птичкин покрылся липким потом. «Всё. Пропал. Не отмазаться» – отчётливо произнёс внутренний голос.
Интеллигентный дворник, с интересом наблюдавший за неожиданной встречей супругов, вдруг вспомнил историю из далёкой своей молодости: память угодливо воскресила нафталиновое удушье внутри шифоньера, в котором он затаился, бешеное сердцебиение и голос мужа его возлюбленной за дверкой... Глаза Ипполита стали бархатными, душу переполнило сочувствие. Птичьей походкой он подскочил к Татьяне.
– Простите, мадам, пострадавший ваш супруг?
Татьяна кивнула, окинув дворника ошалелым взглядом. Ипполит склонился над ней и горячо зашептал:
– Супруг ваш – муж в самом высоком смысле! Великая душа! Добрейшее сердце!
Птичкин вмиг прекратил потеть и весь превратился в слух.
– Невиданное благородство! – пафосно продолжал дворник, поправляя пенсне. – Героизм и талант самопожертвования!
– О чём вы? – Татьяна начала раздражаться.
– Не о чём, а о ком. О вашем прекраснодушном супруге. Сей доблестный муж бросился спасать котёночка, застрявшего на дереве.
– Котёночка?!
– Котёночка! Вот из этого обездоленного семейства – Ипполит широким жестом указал на кошачье царство бабы Насти.
– Котёночка... – умилённо повторила Птичкина.
Федя мысленно дал пинка внутреннему голосу – «Пропал, не отмазаться – вечно ты кликушествуешь, паникёр паршивый!»
– Да мадам, котёночка! Беззащитного малыша он спас, а сам, видите ли, сорвался – трагическим голосом продолжал Ипполит, театрально заламывая руки. Он вошёл в такой раж, что впервые в жизни перепутал Сашу Чёрного с Михаилом Булгаковым:
– Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! – и, шмыгая носом, застонал. – Пойду лягу в постель, забудусь сном.
Смеркалось...
На разбитой дороге «скорая» тряслась, словно исполняла пляску святого Витта.
– Феденька, ничего страшного, перелом закрытый, похоже, без смещения. Сейчас приедем в травматологию, сделаем рентген, гипс наложат... Ничего страшного Феденька – утешала супруга Птичкина. Душа её корчилась в смятении: «Котёночек... Котёночек... Какая же я дура! – в ушах звучал голос Никулина в обличии Семёна Семёновича Горбункова: «Как ты могла подумать?! Ты, мать моих детей!» – Да! Как же я могла?! Какая же я дура!
Наконец, добрались до больницы. Птичкина утащили на рентген. Водитель Гриша коротал время на свой обычный манер: задумчиво ковырял в носу и размышлял о мироздании и метафизике. К прозе жизни его вернул голос Татьяны:
– Сейчас загипсуют и отвезём Федю домой.
Птичкина выглядела необычно кроткой и просветлённой. В голове у неё всё крутилось: «Великая душа!... Добрейшее сердце!... Котёночек...».
Татьяна нежно и заботливо сложила снятые с мужа брюки, которые вдруг пискнули голосом мобильника. Погружённая в свои мысли, Птичкина машинально вытащила из кармана телефон. На экране высветилось сообщение: «Муж ничего не заподозрил! Нежно целую, тебя, милый! Твой котёночек».
Борис Подберезин
Сообщение отредактировал Рыжик - Воскресенье, 26.11.2023, 16:28 |
| |
| |
| Златалина | Дата: Четверг, 14.12.2023, 14:48 | Сообщение # 597 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
| На больничном
Летняя школа по изучению языка ещё не началась, к тому же я находилась на законном больничном. Мне позвонили. Это была Зинаида, секретарша с нашей кафедры, она говорила обиженно: - До вас не дозвонишься! Я зачем-то извинилась. Мне это нетрудно, я всегда извиняюсь.
- Только не исчезайте! Сейчас соединю вас со старшим преподавателем! – ответила она, после чего трубка бухнулась на стол.
Было слышно, как Зинаида отодвигает рабочее кресло и встаёт. По каменному полу зацокали, удаляясь вглубь коридора, каблуки, где-то раздался стук, где-то скрипуче открылась дверь. Зинаида спросила у кого-то: «К вам можно?» Потом какое-то время в телефоне звонили другие телефоны. Секретарша на кафедре самый востребованный человек. Нас всех можно уволить, ставив её одну, и она справится. Потом всё повторилось в обратном порядке: скрипнула дверь, зацокали каблуки, послышался грохот придвигаемого рабочего кресла, и наконец в телефоне прорезался её голос:
- Соединяю.
Я подготовилась к худшему. Что меня увольняют. Или что всё наше маленькое отделение славянских языков и литературы закрывают. Такое уже случилось в одном университете. Долгое молчание на другом конце располагало к подобным мрачным мыслям. Я злилась на тишину.
«Что за чёрт! – подумала я. – Мы живем в Америке в двадцать первом веке, а телефонные звонки начальства у нас, как в старину: «Алло, девушка, дайте триста второй». Что-то типа этого.
Но вот телефон ожил. Мужской голос пробухтел.
- Але, это звонит Сергеев, вы ещё болеете?
- Да.
- Что-то серьёзное?
- Тяжёлая мигрень.
- Да, я тоже нездоров. Грипп. Вот жена не отпускала, но я вырвался и пришёл на кафедру, чтобы найти замену, потому что на кладбище поехать не смогу.
Я, конечно, спросила, что случилось. Сергеев заговорил с ласковым напором.
- Вы, конечно, знаете Пинхуса Рубинчика. Один из лучших преподавателей у нас. Так вот есть небольшая проблема: некому его проводить.
- Куда проводить? – спросила я.
- На кладбище, разумеется. Но сначала в похоронный дом.
- А что случилось? Кто умер?
- Он умер. – сказал Сергеев и громко высморкался. - Инфаркт. Похороны завтра! Вы не смогли бы поехать?
Я сказал, что у меня нет машины и напомнила Сергееву, что я нездорова.
- Машина не нужна. – сказал он, проигнорировав последнюю часть предложения. - Доберётесь до похоронного дома в Брайтоне. Называется «Станецкий». Записывайте по буквам название: эс, ти…
- Не надо, я знаю.
- Прекрасно. Подойдёте к десяти утра. Надо будет что-то сказать о покойном. Найдёте душевные слова, ведь вы писатель. Что вы помните о нём?
Я ответила, что пару раз видела его в преподавательской столовой. Он ел шницель с картофелем-фри и пил яблочный сок.
- Этого не нужно говорить! При чём здесь шницель? – взволнованно воскликнул Сергеев.
Я согласилась с ним, что шницель тут ни при чём.
- Ну, ладно, - со вздохом сказал Сергеев. - Там будут говорить родственники и друзья покойного, от наших ещё будет кто-нибудь. Потом оттуда на кладбище поедут машины. Главное: съездить, уважить коллегу и венок от кафедры возложить.
- Может, не обязательно на кладбище? – жалостно спросила я и опять наступила тишина.
- Вам у нас нравится? – неожиданно спросил Сергеев.
- Где у нас?
- На кафедре?
- Очень.
- Хорошо! Прекрасно! Не исключено, что, начиная со следующего семестра для вас будет постоянная работа. Ассистентская, разумеется.
- Разумеется.
- Вы отдаёте себе отчёт, что есть и другие кандидатуры и что всё зависит от вас!
Это был умелый шантаж. Отработанная тактика. Всё объясняется просто: таких, как я, нанимают ассистентами на семестр и потом увольняют. Для университета невыгодно держать меня дольше одного семестра. Если я проработаю два семестра подряд, то могу претендовать на постоянное место. Что не дай бог, потому что тогда им придётся покупать мне страховку, и вообще возникнут всякие сложности!
Некоторых, впрочем, берут. Для этого надо много улыбаться начальству, проявлять активность, коллективно порицать кого-то, кого все бранят, и никогда не рассказывать студентам опасные анекдоты. К опасным анекдотам в наши дни относятся все анекдоты, где упоминается этническая принадлежность, цвет кожи, волос, пол, возраст, профессия. Другими словами, всё, что составляет самую соль хорошего анекдота. За такое студенты могут настучать на преподавателя, и прощай, карьера! Недавно на занятии, где мы разбирали торговые соглашения, я рассказала анекдот, который слышала ещё от моего деда, который был родом из Румынии. У магазина двое румын, чтобы скоротать оставшееся до открытия время, заводят разговор о погоде. Один румын говорит: «Сегодня будет жара! Как минимум тридцать шесть градусов!» Второй качает головой: «Нет, тридцать только!» Первый, подумав: «Хорошо, тридцать четыре, и жара – ваша!»
В классе нашлась девушка, у которой кто-то из родственников был родом из Румынии, и она подала на меня жалобу в деканат, что я изображаю румын жадными торгашами. Мне сделали мягкий выговор. Когда Сергеев упомянул, что меня могут взять на постоянную работа, я стала покладистой и сказала, что всё сделаю, поеду в похоронный, поеду на кладбище, поеду хоть на край света.
На следующее утро, одевшись во всё тёмное, я отправилась в дом Станецкого. Для верности я решила выйти из дома заблаговременно: вдруг автобуса долго не будет или ещё какая-то ерунда случится. Когда я добралась до остановки, мой шестьдесят шестой автобус стоял перед красным светофором с зажжёнными задним огнями, и двери уже были закрыты. Я постучала в стеклянную дверь, и водитель меня впустил.
- Мне там надо у похоронного дома «Станецкий». Вы знаете, где он находится? – спросила я у него.
- Конечно, знаю! Хорошее место! Недавно там тёщу хоронил.
Я сделала печальное лицо.
- Умерла от старости. – бодро продолжал он. - Девяносто семь ей было.
- Смерть всегда есть смерть! – философски произнесла я.
Он кивнул.
Потом я вспомнила, что еду на похороны сослуживца и при этом ничего не знаю про покойного. Включив телефон, я нашла его имя в Гугле. Это было легко. Вот, скажем, Сергеевых там пруд пруди, а Пинхус Рубинчик был только один. «И тот умер!» - с непонятной горечью подумала я.
Короткая заметка в Википедии. Чёрно-белая фотография, круглое лицо, очки, лысина. Родился в Ленинграде в пятьдесят шестом, учился в пединституте имени А. Герцена, участвовал в диссидентском сионистском движении, создал кружок по изучению иврита, за свою деятельность был отчислен из университета, преследовался властями, эмигрировал, учился в Гарварде. Снизу были даны ссылки на его статьи в журналах, упомянуты две книги по методике преподавания литературы. Про таких людей надо писать романы, а тут буквально несколько предложений.
Похоронные дома в Америке выглядят на редкость уютно. В своё время, ещё свежей эмигранткой, я, как и многие другие свежие эмигранты, селящиеся в дешёвых квартирах, забавлялась игрой в выбор дома, в котором однажды буду жить. Заключалась она в том, что замечаешь красивый особняк и представляешь, какой была бы жизнь, поселись ты в нём. Мы с приятелем шли по Массачусетс-авеню, и в глаза мне бросилось здание с облицовкой из кремового гранита и с высокими эркерными окнами. В добавок к этой милой архитектуре у лестницы по обе стороны ступеней стояли два симпатичных белокаменных льва. Я, залюбовавшись, остановилась.
- Вот здесь бы я хотела оказаться!
- Со временем все мы тут окажемся! – с непонятным трагизмом ответил приятель. – Это – похоронный дом!
В похоронном доме «Станецкий» тоже было уютно, если, конечно, не считать гроба в холле. Он стоял, уже накрытый крышкой. Я, проходя мимо, поклонилась и вошла в зал, села во втором ряду у прохода и стала слушать, что говорил раввин. Он был пожилым, краснощёким, с пушистой белой бородой, серыми кисточками бровей и добрыми глазами. Больше всего он походил на Санта-Клауса. Если бы не одеяние. Когда он начал произносить молитву, все встали. Иврит у него был с сильным американским акцентом. После молитвы он сказал по-английски душевные слова о том, как хорошо покойному, как он радуется, глядя на нас, евреев и не евреев, которые собрались здесь, чтобы почтить его память. Вдова Пинхуса в чёрном велюровом костюме сидела в переднем ряду и утирала уголки глаз платком. По обе стороны от неё расположились два сына. Раввин, обращаясь к ней, добавил, что у её Пунхуса сердце спокойно за неё и детей, что у него уже ничего не болит и он с райским отдохновением слушает наши слова о нём.
Как часто, думая о смерти, я ловлю себя на мысли, что рада за покойного. Мне всегда стыдно за свои мысли, и поэтому слова убелённого сединами мудрого старца меня обрадовали. Значит, это естественно так ощущать, когда уходит человек. Немного грустить, немного радоваться. Следом к микрофону из зала выходили близкие и друзья, тоже говорили добрые слова об ушедшем. Что он был талантливым преподавателем, умным собеседником, отзывчивым другом. Грустно, что при жизни мы не слышим этих слов. Какая жалость, что для этого надо умереть! После панихиды меня окликнул преподаватель с нашей кафедры. Его звали Соломоном, но в своём кругу мы звали его Соликом. Мы с ним дружили ещё с девяностых, с момента, когда я прибыла в страну. Тогда жизнь мне улыбалась: меня взяли в хороший университет, дали преподавание. Квартиры тогда стоили дёшево, в стране был рент-контрол. Солик был моим соседом по дому. С тех счастливых времен куда только судьба его не заносила! Он за тридцать лет исколесил Америку; ездил повсюду, где предлагали работу, жил в Айдахо, в Айове, на Аляске, в Индиане. Может быть, именно эти перебежки по североамериканскому континенту придали его телу наклон, подобный тому, под которым движутся спринтеры – он всегда как будто куда-то летел головой вперед. Вот так же подлетев ко мне, уже выходящей из холла, он пробухтел:
- Слушай, я боялся, что из наших никого не будет! Слава Богу, что ты пришла! Гроб уже вынесли, кстати. А ты на кладбище поедешь?
Я сказала, что поеду. Солик обрадованно кивнул.
- Значит, я свободен, а то мне надо младшую в лагерь везти.
- Сколько их у тебя?
- Четверо, слава Б-гу. Ох, как я рад, что ты пришла, - повторил он. – Я очень уважал Рубинчика. Ты его знала?
- Мало.
- Жаль! Чудесный был человек! Наших с тобой лет. Ведь надо же – раз и умер! Ладно, давай пойдём, я отдам тебе венок, а сам двину дальше.
Он повёл меня назад в коридор, где у стены среди нескольких скромных искусственных венков от товарищей покойного по теннисному клубу и от соседей по кондоминиуму стоял наш венок. Он выглядел самым солидным: на проволочной основе, плотно обкрученной ветвями можжевельника, пестрели живые цветы. Солик осторожно поднял его, чтобы не помять лилии, высовывающие белые головы из зелёного плетения.
- Держи его и стой на выходе. – сказал он и подал мне венок, который был изрядно тяжёлым.
- А ты?
– А я посмотрю, кто там есть из знакомых, чтобы тебя подвезли.
Он умчался, и я осталась стоять с венком в руках и смотреть на толпу, выходящую из похоронного дома и быстро разбредающуюся по автомобилям.
Солик вернулся через пару минут и повёл меня к чёрной машине, где за рулем сидел маленький пожилой человек в чёрной кипе, а сбоку разместилась среднего возраста женщина в тёмно-синем платье, в парике, с серой шалью на плечах. Мужчину звали Мордыхаем, он был троюродным братом покойного, его жену звали Малкой.
- Они никогда не были в Бостоне. Приехали из Израиля погостить, а тут такое… - прошептал Солик.
Он помог мне положить венок в багажник и почтительно встал сзади, ожидая, когда мы тронемся...
( окончание следует)
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Четверг, 14.12.2023, 14:48 | Сообщение # 598 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
| Я сидела на заднем сидении одна, и это было хорошо. Я видела перед собой пегий парик Малки и ещё над лобовым стеклом качающуюся картонную ёлочку освежителя воздуха. Сначала долго стояли на светофоре, потом тронулись.
Строгой колонной машины поехали к кладбищу; их движение было плавным и не очень быстрым, что соответствовало ситуации. Мы ехали по красивому летнему городу, а я всё продолжала думать о смерти.
Вот живёт человек и вдруг без предупреждения умирает. О чём он думает в последние минуты? Грустит ли он, покидая мир, где у него остаются близкие? Или он испытывает облегчение? Много раз в течение жизни мы примеряем смерть, пытаясь заглянуть в тот миг, когда сами будем уходить. Из всех репетиций эта самая главная. Иные говорят, что думать о смерти неконструктивно: зачем о ней думать, если она неизбежна. А всё-таки интересно…
Я часто представляю её, как путешествие. С детства я знала, что однажды умру. Видение собственной смерти пришло ко мне неожиданно. В первый раз оно случилось, когда мне было три года, и я нашла в Приморске на берегу моря краба. Он, наверное, только недавно ползал по дну, потому что его панцирь покрывали морские капли, и чёрные глаза влажно блестели. Я полила его водой из пластмассовой лейки, думая, что он снова оживет. Я даже немного подтолкнула его сзади, бормоча детское заклинание: «Беги, крабик, туда, где кораблик!» И, когда, он остался недвижимым, до меня дошла простая истина, что в нём уже нет жизни, она ушла, оставив красный панцирь и похожие на рукавицы клешни. Конечно, я не думала обо всём этом в терминах, в которых думают взрослые. В три года слова «смерть» не было в моём лексиконе. Краб лежал и смотрел в небо, и, как ни огорчителен был факт его неподвижности, но было в нём для меня что-то волшебное. Я уже знала слово «жизнь», и теперь увидела, как она уходит вверх. Потом я надолго всё забыла. Память ребёнка не движется назад, она идет вперёд, как будто вспоминая то, что будет.
Следующий случай познакомиться со смертью случился в тринадцать лет.
Делая уроки, я сидела за секретером у окна и наблюдала похоронную процессию. В те годы, когда человек умирал, его провожал весь двор. И ещё из соседних дворов тоже приходили люди, сбегались дети. На обочине рядом с пунктом приёма стеклотары стоял катафалк, по направлению к нему четверо мужчин торжественно несли на плечах гроб; двое человек позади несли крышку от гроба, музыканты играли грустную музыку, название которой я не знала, но меня зачаровывали тёмные ноты, издаваемые тубой, скрипками и барабаном. Какие-то старухи плакали и крестились, и только покойник в чёрном костюме, обложенный белыми лилиями, был спокойным, сухим и строгим. В секретере, хотя было утро, горела трубчатая неоновая лампа. Она была устроена так, что загоралась, когда я открывала секретер. И вот я сидела над тетрадью, сбоку лежал учебник географии, неоновая трубка немного гудела, распространяя вокруг себя свечение и бросая полосу на изображённую в учебнике карту мира. Слева в незанавешенной шторой части окна была открыта форточка, в неё входил сентябрьский ветер. Внезапно из-за правой половины шторы, которая оставалась опущенной, послышался шелест. Я отодвинула её и увидела вазу с увядшими коричневыми розами. Мне их подарили родители к началу учебного года, но я про них совершенно забыла. Вода в вазе давно высохла, и розы стояли, как будто живые, но на самом деле застывшие в точке исчезновения жизни. Каким-то образом похороны во дворе, умершие розы и открытый учебник с географической картой соединились в одно большое целое, и у меня появилось ощущение бесконечности и того, что будет, когда меня не станет здесь. Мне привиделось путешествие, которое я совершу после жизни в незримой телесной оболочке, которая пока что была просто нарисована на фоне декораций квартиры.
Третьей смертью в жизни был уход бабушки, маминой мамы. Я тогда училась на Урале в Нижнем Тагиле, и её долгая, непонятная болезнь прошла мимо меня. Просто однажды зимой я приехала на каникулы, и мы с мамой пошли навестить её и деда. Они жили в полуторакомнатной квартире на другом конце города в районе под названием «Ботаника». Нам открыл дед. Он был всё таким же: крепким, с загорелым лицом и руками. Загар держался на нём летом и зимой, потому что дед работал уличным фотографом.
- Она спит! – сказал он.
- Наум, я не сплю! Кто там пришёл? – услышали мы голос из-за высокой китайской ширмы, которая разделяла две части комнаты.
Мы сняли обувь, переобулись в домашние тапочки и пошли к ней. Бабушкино ложе, узкий твердый диван помещался у стены. На стене висел цветной молдавский ковер из тонкой мягкой шерсти. На нём три красавицы собирали виноград. В молодости и в зрелые годы в кругу друзей и знакомых бабушка общепризнанно считалась красавицей. Когда я уезжала учиться, ей было семьдесят пять лет, и она всё ещё была хороша. Годы долго щадили её стройную фигуру и лицо с ясными чертами. Она была выше мамы ростом и даже выше деда. Вся семья меня тогда провожала на вокзале, все махали руками, когда поезд тронулся, но её лицо и мягкую белую руку я видела дольше других. На Урале в снах я продолжала её видеть. В ней было что-то светящееся. И вот я стояла у её дивана и не находила ни света, ни ясных черт прекрасного лица, ни мягкой руки. Она лежала, прикрыв глаза. Из-за болезни она стала маленькой и худой, и почти сливалась с узором на ковре. Только когда я заговорила с ней, она приподняла веки, и свет наполнил её. Я взяла её руку, прижала к губам. Потом я встала на колени, взяла в ладони её светящееся лицо. Я попросила её не умирать. Она ничего не ответила. А на следующий день нам позвонил дед и сказал, что её больше нет.
- Она ждала тебя, чтобы спокойно уйти, - сказал дед.
Святых в мире нет. Но в мире есть светящиеся, и бабушка была одна из них. Её жизнь была путешествием по разным мирам. После её похорон я долго рассматривала альбом, в котором нашлось несколько старинных фотографий. Она была младшей дочерью в многодетной семье. Вот она, ещё девочкой, вместе с другими детьми сидит на скамейке на фоне кособокого дома. За её спиной стоит худой бородатый мужчина. На нём долгополый лапсердак, на голове шляпа, узкая седая борода спускается на белую рубашку, выглядывающую из широкого треугольного выреза лапсердака. Это бабушкин отец Велвел, раввин из городка под Одессой с веселым названием Каменка. Рядом с бабушкиным отцом стоит женщина в полушубке, её голова тщательно обмотана платком так, что шеи не видно; взгляд устремлён на кого-то, кого в кадре нет – видимо, на фотографа. Это бабушкина мама жена раввина Велвела Двойра. У меня заняло несколько минут, чтобы осознать, что это мои предки. Я жадно искала в их внешности хоть что-то, что связывало бы меня с ними. Я не нашла. Лица их были строги и темны. И лица их многочисленных детей тоже мне ничего не сказали; все дети были бледными, серьёзными, большеглазыми. Наверняка родители велели им вести себя по-взрослому, не улыбаться, не гримасничать. Только бабушкино лицо не захотело подчиниться. Оно светилось в ряду этих худых неулыбчивых лиц на фоне тусклого нищенского пейзажа, как будто пытаясь сделать эту бедную жизнь ярче. Перекинутая через плечо тугая коса подчеркивала белизну кожи, глаза весело пылали. Я сидела на венском стуле за большим круглыми столом и безотрывно смотрела на фотографию. Дедушка встал за моей спиной.
- Их всех, кроме твоей бабушка, убили. Одних – Сталин, других – Гитлер. А эти двое, их родители, умерли в Голодомор, - начал говорить дед, но мама его остановила.
- Не надо, папа! Пусть она просто посмотрит альбом...
Мы ехали в машине. Мордыхай и Малка тихо переговаривались на иврите. Сильно работал кондиционер, и Малка поплотнее запахнула шаль. Она иногда показывала в окно на какой-нибудь особняк с садом и восхищенно произносила одну из немногих фраз, которую я могла понять. В начале девяностых я жила в Израиле, училась там в ульпане, немного говорила на иврите. С тех пор много воды утекло, я почти всё забыла, но что-то осталось.
«Какой замечательный дом!» - восклицала Малка. Мордыхай бросал вправо быстрый взгляд, говорил, что да, замечательный, и опять начинал следить за дорогой. «Я люблю эти платаны. Они выше, чем у нас в Бат-Яме. Ты только посмотри, сколько они дают тени!» - теребила мужа Малка. Он устало кивал. Впереди ехали машины от нашего похоронного дома, и надо было держаться в строю. Вот так равномерно в муравейнике движется струйка муравьёв. Они идут друг за другом, не отставая от предыдущего и не обгоняя его. Мы были такой струйкой муравьёв. Мы проехали мимо синагоги, современного здания с ребристыми гранями фасадов, высокими окнам и массивными дверьми. Малка посмотрела на Мордыхая и, видимо, подавив желание дать оценку синагоге, посерьезнела и больше уже не сказала ни слова, пока мы не доехали до цели. Мордыхай запарковал на обочине машину и сказал, что можно выходить. Снаружи было жарко. Малка стянула с плеч шаль и бросила её на спинку сиденья. Там же, на обочине возле кладбищенских ворот, останавливались и другие машины, из них выходили люди и слаженно двигались в одном направлении, ко входу на территорию кладбища. У входа на четырёх железных ногах стоял умывальник с двумя раковинами; чёрный пластмассовый ковш триумфально высился на перекладине над ним. Все выстроились в очередь, совершая ритуальное омовение рук. Я употребила все силы на то, чтобы запомнить, из какой руки в какую надо лить воду, и всё равно всё перепутала. Потом я вспомнила про оставленный в багажнике венок и, с трудом разыскав в толпе Мордыхая, попросила у него ключ от машины.
- Венок, - сказала я и очертила в воздухе круг руками.
- Я понимаю слово «венок», – сказал он, – но он вам нужен? Сюда с венками нельзя.
- Почему?
- Ни цветов на еврейских похоронах, ни венков – тут он тоже очертил круг – не кладут.
- Мне нужен, - упрямо сказала я.
Он в ответ только пожал плечами и, вынув из кармана связку ключей, показал мне нужный.
Я вышла на дорогу и увидела длинный ряд машин. Все они были похожи друг на друга и почти все были чёрными. «Может, ну его, этот венок», - подумала я и тут вспомнила про Сергеева, что он ведь, гад, спросит. Мне стало грустно: где мне было искать нашу машину? Я шла и заглядывала в окна, выглядывая серую шаль Малки. Это занимало кучу времени, солнце отсвечивалось в окнах, и мне приходилось прикладывать руки к стеклу, чтобы хоть что-то разглядеть. Потом просто так по случайности я нажала на кнопку на ключе, и, о чудо, одна из машин замигала. Я подошла к ней и открыла багажник.
За время дороги венок сильно истрепался, розы обмякли, лилии осыпались, забрызгав жёлтой пыльцой дно багажника. В силу непонятных причин венок стал тяжелее, и я несла его с трудом. Никого из наших уже у входа не было. Я посмотрела вперёд. Они стояли далеко аж в конце длинной, проходящей по диагонали асфальтной тропы у противоположной стены кладбища. До них было топать и топать. Солнце было в зените, от влажной травы поднимался пар, повисал в воздухе, и лучи солнца торчали в нём, как спицы в вязанье.
- С венками на кладбище нельзя! – услышала я голос и, оглядевшись, никого не увидела.
- Как так? – спросила я голос.
- Не полагается!
- Кто вы? – спросила я тогда.
- Я служитель кладбища.
- А другие все пронесли! – ответила я.
- Не полагается, - повторил он и наконец материализовался в виде скуластого мужчины с бесцветными глазами и двумя зубными щётками вместо бровей. Он посмотрел на меня как-то особенно неприязненно и указал на несколько венков у стен будки. От теннисного клуба, от жильцов кондиминиума.
- Но мне было велено возложить, - пробормотала я.
- Вот тут и возложите! – отрезал он,
Коря себя за то, что не послушала Мордыхая и провозилась в поисках его машину, я побрела к нашей группе. Похороны шли полным ходом. Мужчины, женщины зачёрпывали лопатой из свежей горы чернозёма землю и бросали её вниз на гроб. Я тоже зачерпнула землю и, осторожно наклонив лопату, дала ей скатиться вниз.
Может быть, падающие на крышку гроба комья земли — это самое страшное во всей процедуре похорон. Может быть, это вообще самое страшное на свете. Я заплакала.
Потом я сидела на траве у стены и смотрела на остальных. Раввин, раскачиваясь, молился, и в паузах все произносили «Аминь». Ещё что-то было. Люди опять говорили речи. Я устала и не принимала участия. Я сидела у стены и ждала окончания. Я даже задремала и проснулась от того, что кто-то прикоснулся к моей руке.
- Спите?
Рядом со мной присела женщина. На ней были шаровары и шифоновая блуза с алыми розами. И сама женщина выглядела, как пышный розовый куст: алели щёки и полные яркие губы.
- Спите – спрашиваю?
На такой вопрос человек обычно отвечает: «Нет». Не знаю, почему люди стесняются признаться, что спят. Я ответила, что не сплю, просто голова разболелась. В отместку за вранье в этот момент голова действительно начала болеть.
- У меня мигрень, - сказала я.
Женщина посмотрела на меня с состраданием и предложила выпить воды. Я согласилась, и она достала из сумки бутылку с водой. Она отвинтила пробку, протёрла салфеткой горлышко со следами помады.
- Бывает, что голова болит от дегидрации! А вы меня не узнаете? Я Элеонора. Мы с вами коллеги, работаем на одной кафедре. А тоже ассистент.
- Да-да, - промычала я и от неловкости, что не могу её вспомнить, всё продолжала пить невкусную тёплую воду.
Элеонора, оттянув двумя руками шифоновую блузку, потрясла ей, проветривая обильное тело.
До меня донесся запах духов и пота, и я невольно поморщилась. Она виновато улыбнулась.
- Простите, вспотела до неприличия.
Я махнула рукой, мол, ерунда. Она опять улыбнулась и, воткнув пустую бутылку обратно в сумку, уставилась на меня с видом человека, которому хочется вам сказать что-то очень важное. Так оно и вышло. Элеонора, обмахиваясь мемориальной памяткой об усопшем, начала говорить:
- Голубчик, как я рада, что мы тут встретились!
- Да-да! – пробормотала я, чувствуя, как стальная мигренозная игла в левом виске продолжает делать свое чёрное дело.
- Вот и славно! Я тогда с вами буду откровенна. У меня очень сложное семейное положение. Сын двадцати семи лет продолжает жить со мной, дочь недавно развелась, у неё двое детей, она в депрессии и тоже не работает. Я, по сути, содержу их всех. Вы же понимаете, что это означает? Платят-то нам, ассистентам, прямо скажем, гроши, поэтому сбережений я не сделала, и если вместо меня возьмут вас, то я и вовсе погибну и вместе со мной погибнет всё моё семейство. Так вот прошу у вас: откажитесь от позиции. Вы ещё молоды, вас возьмут в другом месте. А я… Вы же понимаете, что другой работы в моём возрасте я не найду.
Я автоматически кивнула.
- Да-да, конечно!
- Правда! Так значит решено? Ой какая же вы умница!
- Спасибо на добром слове! – грустно ответила я.
Психологи говорят, что неумение сказать «нет» это признак слабой воли. Я не знаю, какая у меня воля – сильная или слабая. Это зависит от ситуации. А ситуация была такая, что хоронили человека, он уходил в землю навсегда. Душа его возносилась к небесам. Тут ли было думать о мирском, а какой-то работе? Могильщики, мощно впивались лопатами в гору чернозёма. Они работали слаженно, как муравьи, когда они строят свой муравьиный храм. Рядом с ними под палящим солнцем осталось только несколько человек. Были среди них Мордыхай с Малкой и ещё другие живущие и ушедшие: вдова с сыновьями, моя бабушка Рахель, её отец раввин Велвел, его жена Двойра и их погибшие дети. Они стояли все вместе, отгороженные от меня и от всего этого мира своей верой. Остальные уже брели к машинам.
Катя КАПОВИЧ
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Среда, 20.12.2023, 16:06 | Сообщение # 599 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 710
Статус: Offline
| Вавилон
-ГрЫша, ты глянь кого там привёл твой шлымазл!
- Таки этот шлымазл, между прочим, и твой сын!
- Нет, я тебя умоляю…. Когда он вытворяет такое, так он вылитый ты!
Во двор входил рослый Борик, студент-математик, а за руку он вёл тонюсенькую и прозрачную девушку, в очках и с чёлкой до самых глаз.
Девушка-оленёнок, с огромными шоколадными глазами крепко держалась за большую Боренькину руку.
- Не, ты глянь как ухватилась… Оно ж и понятно, ветер подует и Это унесёт на раз! Ни формы спереди, ни богатства сзади….
- Папа -мама, познакомьтесь, это Регина….
- Ой, детонька, и где ж тебя так рОстили?!
- Здрасьте, тетя Галя и дядя Гриша.
И не переживайте ви так за мой тухес, может я-таки могу принести нахес?!….
Гостья подбоченилась и приняла боевую стойку. Сразу было видно, что к подобным перепалкам она привычна, и даже получает от них удовольствие.
Боже упаси, она нисколечко не хамила, она весело взирала на Боренькиных родителей из-под длинной чёлки.
- Не, ты глянь, она ещё и языкастая… - Недоверчиво и уважительно пропела Галя. И уже тихо и себе под нос - Ну слава богу, дождалась.
- Ну заходи до двору, а шо, може ты ещё и готовить умеешь?
- Так руки вроде ж есть…. - Будущая невестка уже закатывала рукава и основательно усаживалась у тазика с картошкой. Счастливый Боря сиял, как тот медный самовар, что уже третий год стоял в окне у тёти Песи.
Он был обсолютно уверен, что Реночка очень понравится родителям. И он-таки не ошибся.
Регина родилась в холодных краях. И детство у неё было тяжёлое и очень голодное. Репрессированные родители прибыли туда не по своей воле, но Одессу они привезли в себе. Юмор и неповторимый колорит Реночкины родители гордо хранили, как красноармеец пролетарское красное знамя.
Измождённые и, казалось бы, выброшенные из общей жизни люди создавали жизнь там, где находились сами. Они просто не умели и жить и говорить по-другому. У них отняли всё, и даже их честное имя, но юмор и тонкий ум отнять у них было невозможно. До самой последней минуты они оставались ироничными и светлыми людьми. Вернуться же в любимый город смогла только их девочка...
- Я дико извиняюсь, но хочется спросить - шо мы будем всю эту картошечку жарить?! Или может всё-таки сварим?!
Регина споро очищала второе ведро картошки.
-Не, ну если ви думаете, шо у нас тут кушают на ужин одну картошку, так это ви сильно ошибаетесь… - подал голос счастливый отец шлимазла Бори. Он давно уже наблюдал, стоя за спиной гостьи, как она молниеносно снимала с крупных базарных картофелин тонкую стружку и аккуратно складывала всю эту красоту в тазик с чистой водой. Гриша подмигивал жене, довольно покрякивал и подкладывал Регине всё новые картошки, до того ему нравилось смотреть на её ловкие пальцы.
- Оно может, конечно, вы и правы, и кушают тут что-то ещё, - Регина сдула мешавшую чёлку - но судя по количеству, ужинать будет вся улица.
Или я ошибаюсь?!
Она озорно подмигнула Грише через плечо.
- Ой, шо там осталось от той улицы, видели бы вы нас до войны… Какие были люди!
Молодёжь подняла головы и огляделась по сторонам.
Это был очень старый одесский двор. Высоко в небе плескалось бескрайнее чистое небо, его расчерчивали на острые треугольники беспокойные белые голуби. Кружевные переходы веранд и лестниц подпирали старые комнаты. Галлереи разношерстных пристроек делали двор похожим на настоящий Вавилон.
Окна и двери были открыты свежему воздуху да и людскому взору, из некоторых парусами пузырились чистые тюлевые занавески. Тазы, детские санки на зиму, патефон, горшки и коляски - вся эта рухлядь украшала веранды и стены, рассказывая удивительные бесконечные истории этого двора. Жизнь сообща. Жизнь нараспашку.
- Тётя Песя, перестаньте мучать кошку, она умрёт от вашей любви раньше, чем успеет состариться!
- Дядя Иржик, шо там у нас с часами?! Ми их когда-нибудь починим или станем держать на стене для красоты?!
- Нет, ну нельзя же так издеваться над людЯми…. Феня Адольфовна, ваши котлеты пахнут и уже совершенно не можно дышать! Мы ж тут захлёбываемся слюнями….
- Мая, пока ты доваришь своё сатЭ, наступит уже зима, а кушать надо сегодня!….
Дородная и красивая Галя, как настоящий капитан на шхуне, командовала всем двором. Её острый намётанный глаз не пропускал ни малейшей детали, она, как минёр на поле, беспрестанно держала всех обитателей в поле зрения. Одной рукой она жарила свежую плотву, которую Гриша добыл на Привозе, другой мешала борщ в огроменной кастрюле, больше похожей на выварку. Некоторые ей отвечали, нежно орали подколки и прибаутки в ответ, а многие просто любовно улыбались.
К ужину начиналось настоящее театральное действо. Из всех комнат, углов и проходов вниз стекались люди. Они чинно рассаживались за огромным столом, его соорудили прямо посреди двора. Двойной же праздник, во первых Шаббат - встреча субботы, и во-вторых Галин Боря привёл-таки на показать свою кралю. А это, знаете ли, происходит не
каждый день.
Соседи спускались со своей снедью и тарелками, вынося из домов всё самое лучшее, и каждый нёс с собой дополнительные стулья.
Люди сидели очень странно, как бы все вместе, но между ними, здесь и там, злыми проплешинами, оставались пустые места. Регина прижалась к Борису и молча наблюдала этот ритуал.
- А почему так сидят?! Это ж столько людей ещё должны прийти? -
округлила и без того огромные глаза гостья.
- А тут, Региночка, должны быть ещё люди… Но их почему-то нету… Совсем. - Гриша странно смотрел вбок, глаза его наполнились слезами.
Он родился и вырос в этом дворе, здесь гонял голубей и здесь впервые закурил. Его нянчила тётя Ева, Давид Моисеевич пытался обучить музыке, а доктора Бирштейны кормили манной кашей на базарном молоке.
Ривку и Лазаря Бирштейн повесили за помощь подпольщикам на большой площади в самые первые дни. Рядом с Галей и Гришей, по левую руку на пустом месте за столом сиротливо жались друг к другу старые венские стулья из их приёмной.
Тётя Песя, по-прежнему прямо глядя перед собой и чуть улыбаясь, мерно качала головой и гладила рыжую кошку. Всю её семью румыны расстреляли и сбросили в ров. А сама Песя пряталась в лесу, её посылали менять продукты. И грузовики и расстрелы она видела своими глазами. И горящие амбары с людьми. Впав в ступор после всех ужасов, она пешком пошла в город, в свой родной двор, не понимая, что именно оттуда немцы их и забрали.
Галя нашла её по дороге, как и нескольких других, долго прятала в подвалах доходного дома у Оперного театра.
Рядом с тётей Песей у стола были аккуратно расставлены пустые табуреты.
Здоровенный Веня, в вечной тельняшке, вернулся с войны с тяжёлой контузией. Его вынесла на руках санитарка Маечка, она же его и выходила. Он привёз её в Одессу, знакомить с многочисленной роднёй. Но дома их уже никто не ждал: всю его семью расстреляли.
Троих маленьких братиков, сестру с детишками, маму и бабушку.
Расстреляли и дедушку Давида Моисеевича, профессора музыки. Он наивно пытался разговаривать с немцами, убеждал пощадить женщин и детей.
Напоминал им, что они великая гуманная нация Бетховена и Вагнера.
Зондеркоманда - очумевшие от крови полупьяные эссесовцы ржали в голос и фотографировали чокнутого профессора. Распрямив больные плечи и гордо подняв голову он стоял на краю рва, подслеповато щурился на солнце и что-то шептал на идиш своему великому Б-гу.
Рядом с Веней и Маечкой, в торце стола, на почётном месте в потёртом
плюшевом кресле лежала одинокая нежная скрипка ...
Галя всегда была самой сильной и яркой в их дворе. Да и на всей улице.
Злые языки болтали, что её мать во время погромов ссильничал пьяный казак. Богатая родня прогнала Соню, принесшую в подоле горластую крупную девочку. А тётя Ева приняла, и пустила в свою комнату, и помогла поставить на ноги и выучить шуструю малышку. Была она наполовину казачкой или нет, а только росла огонь, а не девка.
И тётю Еву, и Сонечку, Галину маму, и невероятно красивую Фаню, молодую жену Иржика, их всех закопали во рву. Дядя Иржик в фартуке часовых дел мастера молча утирал глаза платочком. Рядом с ним стоял пустой ярко синий стул его любимой Фани.
Галю убили и закопали тоже. Но только она не умерла, а очень долго выбиралась из-под груды тел. Это дедушка Давид спас её. Падая, он прикрыл девушку своим старческим телом, увлёк за собой, обманывая смерть.
Выбравшись из общей могилы, Галя долго ползла, потом брела, пробиралась, возвращалась домой. По чердакам и подвалам у неё были спрятаны соседи. Старики и дети. И некому было позаботиться о них на всём белом свете. Ей надо было выжить, во что бы то ни стало. И она выжила.
Галя переправляла людей в лес, доставала лекарства, ходила по хуторам обменивать еду. Разбрасывала листовки и таскала воду в катакомбы.
Бесстрашную подпольщицу немцы поймали, хуторяне выдали её румынам за три мешка отборного зерна. Гриша с партизанами отбил её и других подпольщиков, вынес на руках полумертвую. Выходил, вылечил, а уж после войны женился. Они оба вернулись в свой осиротевший двор, вернулись жить, собирая по крупицам то, что осталось от их жизни. И даже родили Бореньку.
И навсегда сохранили память о войне, но вот сломленными их назвать было никак нельзя.
И частенько поздним вечером, завидев босоту в подворотне, Галя по дороге домой громогласно выдавала своё знаменитое:
- И если ви собираетесь мене жомкнуть и заземлить - так даже и не начинайте думать!!! Тут многие и до вас сильно старались, так их уже совсем нету, а я всё-таки ещё есть. И даже неплохо сохранилась….
В старом одесском дворе стоял длинный стол, вокруг него сидели искалеченные войной люди и рядом с каждым из них стояли пустые стулья, а на столе приборы.
Девочка-оленёнок Реночка плакала навзрыд, кулачками размазывая горькие слёзы. Боря, гений математики и радость папы и мамы, её обнимал, гладил, и баюкал, как маленькую, сам при этом хмуря соболиные брови и подозрительно тянул носом.
Шумела листва.
Галя с Гришей сплетали под столом натруженные мозолистые руки.
Откинувшись на спинку своего высокого стула, Галя улыбалась. Ей было совершенно понятно, что наконец-то ей есть кому передать своих домочадцев и свой двор. Эта тоненькая девочка, хоть и родилась в сибирских сугробах, но была настоящей одесситкой. С железным
характером, острым языком и горячим сердцем. Она подхватит её факел, и родит будущих детей, и никому не даст в обиду её Борика. И снова на бульваре зацветут каштаны, голуби взмоют в небо под лихой свист вихрастых хлопцев, а во дворе добрые соседи станут накрывать общие столы.
- Тю, та я не пОняла, а шо мы тут расселись, как на похоронах?! У нас суббота или как?! И ребёнка вон мне расстроили, и риба уже вся холодная!
Гриша, Иржик, Венечка, наливайте нам ле-Хайм, мы будем пить За жизнь!!!
|
| |
| |
| papyura | Дата: Вторник, 26.12.2023, 16:04 | Сообщение # 600 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1552
Статус: Offline
|
По справедливости
— Надо, чтоб все было по справедливости, ведь правда же? Ну нечестно же, если одним всё, а другим, которые тоже хорошие, не хуже, а даже и лучше тех, первых, — им ничего. Так неправильно! И в законах всех не так написано, там всё по справедливости! И если люди сами это не понимают, значит, те, кто понимает или по должности обязан, должны им подсказать, помочь там или направить как-то...
Верочка сидела на кухне, чай уже допила и оладьи доела, но уходить не собиралась, а, наоборот, устроилась поуютнее в своём любимом уголке между старым шкафчиком с посудой и стеной, на продавленном стуле с подушечкой, завернувшись в ещё бабкин огромный платок, и смотрела в окно. Она любила поразмышлять в тишине, обдумывая жизнь свою и чужую и сама себе приводя разные аргументы в оправдание её или осуждение.
Особенно после того, как новый начальник назвал её умницей, она пришла к выводу, что просто обязана часть времени уделять исключительно мыслительной деятельности. Она же теперь работник умственного труда! Хотя всего год назад и не мечтала об этом.
Они с мамой жили очень тяжело. Особенно после того, как папка сбежал, а бабуля слегла и совсем дурная стала. Верочка ещё в школе училась, и бабуля на ней была, мама по-прежнему на почте работала, чтоб домой часто забегать, когда Верочка в школе, а то бабулю-то даже запертой страшно было оставлять! Но денег совсем не было. И на еду-то не хватало, а уж про одеться или там сходить куда — и говорить нечего. Ужас просто!..
Перед выпускным Верочка весь вечер во дворе сидела на лавке за гаражами и так плакала, так плакала! Вот там её Лазарь Наумыч и Эсфирь Марковна и увидели. Когда «Волгу» свою ставили. Уже поздно было, темно, но ноги прям домой не шли. Они тогда её к себе затащили, Лазарь Наумыч всё расспрашивал, а Эсфирь Марковна поила сперва кофием со сливками, а потом чаем каким-то необычным, конфетами шоколадными угощала сколько хочешь и кормила, кормила. Еда, правда, чудна́я у них какая-то, не как у людей — котлеты почему-то из курицы, каша какая-то селёдочная на хлеб мазать, но ничего, съедобно.
А потом принесла из другой комнаты два платья на выбор. Чтоб на выпускной-то идти. Верочка и не видела таких. Красивые очень. Верочка одно выбрала, а второе Эсфирь так отдала. И ещё босоножки. На каблуке, как в кино. Чуть жали, но привыкла. А потом вместе с Верочкой к ней домой зашли. Маме гостинцы занесли и предложили ей убирать у них за деньги... Стыдно, конечно, за евреями убирать, но очень с деньгами было плохо, и мама согласилась, тем более что никому обещали не рассказывать и платили больше, чем мама на почте получала.
Это потом уж, когда бабуля померла, а Верочка школу окончила и Лазарь Наумыч её в свой институт в канцелярию устроил, мама на почте осталась только утром газеты разносить, а так к ним на целый день открыто перешла, да и Верочка там полдня проводила, ведь Эсфирь Марковна хотела её в институт подготовить. Ну это Верочке не надо, вот и начальник говорит — умница. Но ходила к ним часто, совсем уже как своя. Они, похоже, прямо за дочку её считают. И подарки дарят. Не конфеты какие-то или заколки, а и пальто, и сапоги, и часы. Эсфирь и сережки с кольцом ей подарила. Золотые. Это при живой-то матери! Ну а что, с другой стороны. Они, евреи, богатые! Профессора оба! Кому им? Они даже отдыхать в Карловы Вары, то есть за границу, ездят, не говоря уж про Ялту и Палангу.
А мама только на даче у них была. И два раза в санатории на Волге, когда Эсфирь ей путевки доставала. Они и Верочку обещали в Крым с собой летом взять, но нет, она с ними не поедет, что люди-то подумают?! Сына-то своего прохлопали! У них сын, оказывается, был! Чего-то наделал — не поймёшь, они толком не рассказали, Эсфирь рыдать сразу принимается, вот они его в Израиль и отправили! Это с родины! А он там вообще стал вроде еврейского попа, стыдобища-то! А они ещё хотели, чтоб она с ними отдыхала! Вроде как член семьи. Совсем с ума сошли!
В институте-то никто про сына не знает! Ведь исхитрились как-то скрыть! Умеют они это! А то бы видели они эти Карловы Вары! А тут вообще Лазарь с Фигочкой своей на конгресс в Голландию намылились и хотят там тайно с сынком встретиться! Чисто шпионы! А может, шпионы и есть?! Как устроились-то! И квартира, и дача, и Крым, и «Волга», и институт, и конгресс... Прямо как не люди, всё им на подносе! А мама за ними мой!
Верочка вздохнула, вытерла тряпочкой стол после чая, взяла лист бумаги и написала в правом верхнем углу: «Начальнику Первого отдела института...».
|
| |
| |
|










