| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
кому что нравится или житейские истории...
| |
| Щелкопёр | Дата: Вторник, 26.07.2022, 15:37 | Сообщение # 571 |
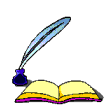 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 319
Статус: Offline
| замечательно написано, душевно.
вот как ты к друзьям нашим меньшим - так и свыше - к тебе относятся!
|
| |
| |
| несогласный | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 11:44 | Сообщение # 572 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| Вот вы говорите, еврейские жёны – лучше всех!.. Ну, не говорите, так думаете. А вы лучше послушайте меня. Я, слава Богу, не один раз был женат. И не два. И не три.
Впрочем, жёны – это не деньги, их можно не считать...
Расскажу всё по порядку. Моя первая жена, Лия, была образованная женщина. Очень образованная. У неё было два высших образования. И ни одного среднего. Она всё могла объяснить: почему летают птицы, почему гремит гром, она только не могла объяснить, почему в доме никогда нет обеда. Готовить она умела всего три вещи: яйца всмятку, яйца вкрутую и яичницу. Через три месяца я уже готов был закукарекать и улететь куда глядят глаза. Но я держался. Потому что я уважаю, когда у человека высшее образование.
Единственно, с чем я не мог смириться, что она каждый вечер хочет со мной читать вслух художественную литературу.
– Адольф,– говорила она,– сними с полки Чехова. Мы почитаем вслух «Три сестры».
– Лиичка, дорогая, но я уже читал эту мансу.
– Читал?..Тогда расскажи.
– А что говорить? Обычная история. В маленьком городе жили три сестры. А там в это время стоял полк с офицерами. А в конце этот полк собрался и ушёл, а три сестры смотрят вслед и плачут.
– Почему?
– Я знаю… Наверное, беременные…
Слава Богу, с литературой она от меня отвязалась. Но она взяла другую моду – тащить меня в консерваторию.
– Адольф,– сказала она,– сегодня мы идём слушать Седьмую симфонию Бетховена.
Я говорю:
– Лиичка, дорогая, я не пойму. Я же не слышал предыдущие шесть.
Но разве она меня слушала? Насильно взяла и притащила в консерваторию. Минут десять я честно послушал, потом тихо вьшел в темноте и поехал домой смотреть футбол по телевизору. В девять вечера она ворвалась домой, как прокурор:
– Почему ты ушел из консерватории?!
– Лиичка, дорогая, эта симфония не для меня. Там даже в программке написано: это для скрипки и оркестра.
Она говорит:
– Адя!..
Когда она сердилась, она меня всегда называла уменьшительно – Адя. Обычно она звала меня полным именем – Адиёт. Так она говорит:
– Адя! Ты живёшь, как животное!
– Короче, что ты от меня хочешь?
– Я хочу, чтобы ты был культурным человеком, чтоб каждый вечер ты проводил со мной, читал мне книги, рассказывал последние новости…
– Я всё понял – тебе нужен телевизор. Так вот, я тебе оставляю этот телевизор, квартиру, обстановку и полное собрание сочинений товарища Достоевского. Читай своему новому мужу вслух роман «Идиот», чтоб он тоже понял, на ком женился.
Словом, я решил для себя твёрдо: больше я на образованной не женюсь Пусть это будет простая женщина, лишь бы она меня любила. И моя вторая жена, Роза, меня-таки любила. Очень любила. Больше меня она любила только деньги.
Боже, как она их любила! Каждый вечер она садилась под лампой и начинала их пересчитывать: Ленин к Ленину, Ленин к Ленину!..
Я ей говорю:
– Роза, солнце моё, что ты так любишь Ленина? Ты что, Крупская?
Она говорит:
– Ой, ты меня сбил!.. – И начинает считать сначала.
Каждый день начинался с одного и того же: она у меня просила денег на расходы. Я как-то не выдержал, говорю:
– Деньги, деньги! Всегда ты просишь у меня только деньги! Почему ты лучше не попросить немножко ума?!
Она говорит:
– Я прошу только то, что у тебя есть...
Не буду врать: в доме был порядок, чистота, вкусный обед, но я как-то раз подсчитал, что на эти деньги мог бы себе взять повара, уборщицу, прачку, двух любовниц и ещё кое-что осталось бы на мелкие расходы.
Наконец я не выдержал и сказал:
– Роза, я устал бороться с товарищем Лениным. Я ухожу и советую тебе в следующий раз взять в мужья Государственный банк. Может быть, он сможет тебя удовлетворить.
Полгода я отходил, пока не встретил Раю. Это было то, что надо. Во всех отношениях. У неё был только маленький изъян – ревность.
Каждый вечер, когда я возвращался с работы, она искала на мне следы преступления. Если она находила светлый волос – значит, я был с блондинкой, если тёмный – значит, я имел связь с брюнеткой. Если же она ничего не находила,
она тоже начинала орать:
– Докатился! Уже с лысой начал встречаться!
Конечно, все мы живые люди. Иной раз задержишься с друзьями, придёшь домой заполночь. Она не спала. Она ждала в постели, как сторожевая собака.
– Явился? – говорила она. – И сколько, по-твоему, сейчас времени?
– Я знаю?.. По-моему, часов десять.
– Десять?! А почему часы пробили один раз?
– А что ты хочешь, чтобы они еще и ноль пробили?..
Каждую секунду она требовала от меня подтверждения моей любви:
– Скажи, что ты меня любишь!
– Я тебя люблю.
– Скажи, что ты меня очень любишь!
– Я тебя очень люблю.
– Скажи, что мы друг без друга не можем жить!
– Да! Мы друг без друга не можем жить. И если один из нас умрет, я перееду жить в другой город.
Наконец я понял, что добром это не кончится. Я тихо собрал вещи и оставил ей записку: «Милая, живи счастливо! Я никогда тебе не изменял, о чём буду жалеть всю свою сознательную жизнь!»
После третьего брака я себе сказал:
– Адольф, остановись. Три раза достаточно. Даже прыгунам в высоту дают всего три попытки.
Но на свою беду я встретил возле синагоги знакомого еврея. Он сказал:
– Уважаемый! Все ваши несчастья от того, что вы женитесь без рекомендации. К счастью, у меня для вас хорошая невеста: скромная, религиозная, внучка раввина. Это то, что вам надо!
Врать не буду: Дора оказалась достойная женщина. Тихая, скромная, религиозная. И всё она знала. Особенно, что нельзя. Нельзя ходить с непокрытой головой, нельзя есть вместе мясное и молочное, нельзя есть рыбу без чешуи.
А что касается интимных отношений с женой, то там всё нельзя! Нельзя неделю до и неделю после, нельзя в пятницу вечером и в субботу днём, в праздники – Боже упаси! А что там остаётся? Ейн муль ин Пурим? Раз в год по обещанию!
Каждый раз, когда я ложился в постель, она хотела сначала почитать Тору. Немножко. До утра. Я терпел-терпел и наконец говорю:
– Дора, я уважаю ваши религиозные принципы, но я хочу понять, на ком я женился: на Доре или на Торе?
Она обиделась, собрала свои умные книги и уехала на свою историческую родину. В Жмеринку.
Я иногда думаю: а вообще бывают на свете счастливые мужья? По-моему тот, кто это говорит, немножко привирает. Вот я недавно встретил своего старого школьного приятеля, Изю. Он говорит:
– Можешь меня поздравить – я женился!
– Ну? И с чем тебя поздравлять?
– О чём ты говоришь?! Это же совершенно другая жизнь. Я теперь живу как барин. Представляешь, просыпаюсь в десять утра, жена мне подаёт прямо в постель кофе со сливками.
Я говорю:
– Что ты врёшь? Я тебя сегодня в восемь утра видел в магазине.
– Но кто-то же должен купить сливки!..
Между прочим, статистика утверждает, что женщины живут на свете дольше мужчин. Но никто не знает, почему. А я знаю. Потому что у женщин нет жён. И никто им не укорачивает годы.
А вы говорите – еврейские жены лучше всех. Да я каждую еврейскую жену узнаю сразу по трём признакам: лишний вес, гениальные дети и шлимазл муж, который всё это терпит!
А. Хайт
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 07:27 | Сообщение # 573 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Статус: Offline
| Изя Гохман всю жизнь работал фотографом.
Начинал ещё с подзатыльников в фотоателье, принадлежащем его родственникам, среди деревянных трёхногих аппаратов, похожих на одноглазых чудовищ из тревожных липких снов.
«Артистическая фотография братьев Гохман» находилась на первом этаже в доме Страушенера – по улице Захарьевской, 58.
Дядя Элья Гохман ввиду слабого здоровья вовремя уехал в Швейцарию и больше никогда в Минск не возвращался, а дядя Янкель – высокий грузный мужчина, обременённый крикливой и вечно чем-то недовольной женой и пятью детьми – фотографическое дело любил.
В ателье стоял макет открытого автомобиля, и благородные семейства из окрестных местечек, наслышанные о диковинном атрибуте, хотели запечатлеть себя исключительно в кабриолете.
А пока шёл подготовительный процесс, дядя Янкель развлекал клиентов историями из иллюстрированных изданий.
– Этот Ульмо был единственным ребёнком в еврейской семье, – рассказывал Янкель, настраивая оборудование. – Не надо двигать брови к затылку: один ребёнок во Франции – обычное дело. Папа Ульмо определил сына в военную школу, где ему обещали сделать из него человека, но не очень-то получилось. Впрочем, отец был в Лионе известным человеком – вёл дела, и когда умер, юному Ульмо кое-что осталось. И этого «кое-что», если разумно наслаждаться жизнью, хватило бы даже его правнукам.
Но это же Франция: там не только едят некошерных лягушек, там без женщин не обходится ни одно предприятие.
И скоро нарисовалась Мария-Луиза: её шелковистая кожа испускала аромат ландыша, а голос был похож на пение ангела. Юноша потерял последние остатки сознания, и папино наследство стало исчезать, словно скорый поезд в чёрном туннеле.
Обычно в этом месте клиенты забывали, зачем пришли, и всецело переключались на историю.
– Ничто так не толкает на дерзкие поступки, как пустой кошелёк и роскошная женщина, – продолжал, своё повествование дядя Янкель. – В один прекрасный день в голову Ульмо вместе с шампанским ударила идея, как быстро поправить свои дела.
Пузырьки наутро выветрились, но идея осталась. Пользуясь доступом в военные заведения, Ульмо выкрал секретные бумаги с твёрдым намерением продать. Но из этого ничего не вышло: Ульмо не хотел их показывать покупателям раньше времени, а те не хотели платить за кота в мешке.
Другой бы взялся за ум и отступился, но юноша резонно решил: раз не получается продать документы за деньги, тогда их надо вернуть – тоже не бесплатно.
И написал письмо самому французскому военному министру: так, мол, и так, хочу лично в руки отдать за какие-то жалкие сто пятьдесят тысяч франков. Министр оказался не дурак и дал в газете условленное объявление, что согласен. Ульмо, уже представляя, как заживёт с Луизой в Америке, пришёл в обговоренное место, но был схвачен и отправлен в кутузку.
А теперь, – заканчивал свой рассказ дядя Янкель, – пока он ждёт суда, все дружненько перестали дёргаться и смотрим, как вылетит птичка.
Однако птичка не вылетала – это было настоящее надувательство.
Маленький Изя переживал, но виду не показывал, принимая правила игры. Ему-то дядя Янкель и передал свою профессию. Изя ещё долгое время набивал руку на медальонах для памятников и выпускных школьных альбомах, но постепенно дорос до специалиста, которого приглашали снимать большое начальство.
Когда Изю Гохмана впервые вызвали в известный дом с колоннами на проспекте, он нервничал.
Его поставили к стене в специальном кабинете, и он стал зелёным, как трава в Парке культуры и отдыха имени челюскинцев. «Сейчас вылетит птичка», – дежурным голосом произнёс офицер и навёл на него фотографическую камеру.
Птичка, конечно, снова не вылетела, но с тех пор сердце Израиля дёргалось при этих словах, словно застрявший в грязи автомобиль...
Изе Гохману выдали пропуск, и в дальнейшем при его предъявлении охрана в галифе вытягивалась по струнке и, отдавая честь, открывала проход к трибунам.
Люди на верхних трибунах, махавшие руками своим портретам, были разными, как разной была страна, которая текла внизу человеческой рекой и кричала «Ура!».
Они были чахлыми и пышущими здоровьем, умными и глупыми, завистливыми и не очень, добрыми и злыми, жестокими и милосердными, недалёкими и стратегами.
Но у Изи Гохмана они все выходили мужественными и мудрыми, какими и должны выглядеть вожди, искренне заботящиеся о своём народе. Это ценили и его работы вставляли в рамки, вешали в кабинетах, печатали в серьёзных толстых книгах и журналах, выходящих для заграницы. И простые смертные тоже желали, чтобы сам мастер Гохман запечатлел их для истории.
Ему приводили детей, и они ерзали на стульях – причёсанные и празднично одетые во всё чистое.
Изя суетился вокруг, двигая осветительные приборы, и пересказывал Тору на современный лад. Моисей выводил рабов из Египта и через сорок лет поколение, не знавшее рабства, вступало в пионеры.
Давид побеждал Голиафа в соревновании по добыче угля, а царь Соломон работал президентом Академии наук.
Дети нетерпеливо ждали, когда же вылетит птичка. Но птичка так никогда и не вылетала. Правда, родители оставались довольны: отпрыски на фотографиях выглядели умненькими и послушными, а некоторые даже со скрипочками.
Незадолго до смерти Изя Гохман всё-таки нашёл решение.
– Сейчас вылетит птичка, – говорил он, снимая крышку с объектива, и через несколько секунд из другой комнаты вылетал попугай с криком «Ульмо – хороший мальчик», делал круг под потолком и садился Изе на плечо.
Все были в восторге и аплодировали.
…Папа умер внезапно. Проявлял плёнки в лаборатории, упал и больше не поднялся. В тот же день домой пришли неразговорчивые люди в мешковатых пальто, предъявили какие-то документы и забрали с антресолей чемодан, в котором папа хранил негативы. После обыска мама ещё долго сидела за столом, закрыв лицо ладонями.
Нового директора фотоателье перевели с должности заведующего диетической столовой – он считал это назначение понижением и был чёрен от злости. «У нас организация, выполняющая важное бытовое обслуживание населения, а не передвижной цирк!» – мрачно припечатал он и потребовал, чтобы мама забрала Ульмо.
С тех пор попугай живёт у нас дома. Он научился открывать буфет и ворует грецкие орехи. А ведь ему почти шестьдесят! Но устроившись на моём плече, он всё так же утверждает, что Ульмо – хороший мальчик.
Евгений Липкович
|
| |
| |
| Пенелопа | Дата: Суббота, 17.09.2022, 16:36 | Сообщение # 574 |
|
Группа: Гости
| ПАНЕРЯЙ
Она шла по пустынной улице вверх. Немного задыхалась, ведь годы брали своё. Она уже прошла по улице Пилимо, повернула на Басанавичус и пошла снова вверх.
Это были незнакомые ей улицы, она оказалась в этом городе в первый раз. Названия подсказал один старый еврей и она аккуратно записала их ивритскими буквами.
Мимо проезжали машины, такси, но она шла пешком. Так решила. Идти ей предстояло долго. Через перекресток Чюрлёнюса и потом дальше, по бывшему проспекту Красной Армии, теперь Саванорю.
До места, в которое она направлялась, было далеко. С десяток километров. Она чувствовала, что даже в свои сорок пять она может не дойти. Просто не хватит сил. Хотя она тренировалась. Долго.
Служила в израильской армии, бегала марафоны. Вот оказывается для чего. Оказывается, готовилась к тому, чтобы осилить эту дорогу.
В руке у неё был платок. Он появился недавно. Второй такой же она повязала на голову. Совсем как её мама, бабушка и прабабушка.
Их было два - этих платка. Обыкновенный, большой белый платок с небольшим, синим магендавидом на краю. Один из них прошёл с ней всю жизнь. В их семье говорили, что это, собственно, всё, что осталось от имущества когда-то зажиточной семьи вильнюсских евреев...
Перепутать их было нельзя – ведь на них был вышит вензель с инициалами их семьи. С ними он попал в Израиль, где его бережно хранили, передавая из поколения в поколение.
Второй появился недавно, что и явилось причиной появления этой, немного странной, восточного вида женщины на улицах европейского города. Она никогда не была здесь, никогда её не тянуло в так называемый טיול שורשים.
Родные не любили вспоминать о когда-то большой и дружной семье, от которой не осталось никого. Просто никого. Осталась только мама этой женщины, которая брела по чужому городу. Мама, через Польшу, после войны попала в еврейскую страну и не вспоминала ни гетто, ни концлагерь и только два номера на её морщинистой руке напоминали о том, что прошла эта хрупкая женщина. Так она и ушла, ничего толком не рассказав дочери ни о предках, ни о прошлом. Дочь вышла замуж за йеменского еврея, и история его семьи стала и её личной историей.
Она бы никогда не приехала сюда, если бы не платок.
Идя однажды по старым улочкам Иерусалима и проходя мимо магазина иудаики, коих в этом городе бесчисленное множество, она автоматически проводила взглядом по витринам. И вдруг остановилась.
На одной из витрин лежал точно такой же платок, какой хранился у нее дома. И вензель… вензель был тот же. Брат - близнец.
Зайдя в лавку, она спросила старого, подслеповатого верующего продавца, сколько он стоит?
- Он не продается, госпожа. Он подарен мне одним "праведником мира" и навсегда останется тут. Я ему дал слово.
И рассказал историю, подобную которой может рассказать в принципе представитель любой семьи, пережившая Катастрофу европейского еврейства.
Как гнали евреев на рассвете из гетто на расстрел… Как стонала земля в Панеряй… И как в могилы сталкивали ещё живых людей, виновных лишь в том, что они родились евреями...
Как одна из женщин, завернув в платок ребёнка, просто положила его на землю и не оглядываясь пошла дальше. Как один из зевак, наблюдавший за происходящим, поднял кулёк и, оглянувшись, исчез в толпе.
Этот литовец спас малышку. И той самой малышкой была мать женщины.
Сбегав домой, она показала старику второй платок и зарыдала.
- Поезжай туда, деточка, - сказал он. - И пройди эту дорогу. А потом вернись по ней, покрыв голову, как это делали твои предки. Обязательно вернись домой. Они не смогли вернуться, а ты сможешь. Это то, что ты можешь сделать для них. И прочти "Шма Исраэль".
Она так и сделала.
Дошла до места, где теперь рос лес. Теперь тут на его месте построили мемориал. Пафосный и помпезный. И, увы, не было никакой могилы её предков, к которой она шла всю жизнь.
Всё, что она могла - это помолиться, покрыв голову тем самым платком, как делали её мама, бабушка и бабушка бабушки...
Подняв ладони и закрыв ими лицо, она начала говорить " שמע ישראל ..."
Закончив молитву, она поглядела вокруг.
А потом молча положила белый платок с синим магендавидом на обелиск, положила сверху камешек и молча ушла. И больше никогда туда не возвращалась...
Эта дорога шла в Панеряй из Вильнюсского гетто. По ней гнали евреев. Билет навсегда в одну сторону.
Так было в Варшаве.
Так было в Праге.
В Берлине.
В Будапеште.
Всюду, куда дотянулась когтистая рука нацизма. Цель которой была одна - уничтожить евреев, как нацию. Просто стереть с лица земли целый народ.
Не получилось. Ничего у них не вышло. И не выйдет.
Потому что теперь у евреев есть Израиль. У каждого он свой, но для каждого он последнее, крайнее убежище, которое надо защищать до последней капли крови.
Земля эта выталкивает чужаков. Земля эта выталкивает тех, кто здесь случайно.
Она для тех, кто её любит. И тогда она возвращает эту любовь.
© Copyright: Лев Клоц, 2020
Свидетельство о публикации №221120401426
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Вторник, 04.10.2022, 09:50 | Сообщение # 575 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
| Предатели
отрывок из перевода романа «Предатели» (2014), повествующего об одном дне из жизни израильского общественного и государственного деятеля Баруха Котлера, в прошлом советского диссидента‑отказника...
На рассвете Хаим Танкилевич, ухватившись за поручень, забрался в троллейбус — с гибкими «усами»‑антеннами, похожий на старого кузнечика бурого окраса. Вручил водителю плату за проезд, пятнадцать гривен, и, пошатываясь, прошёл в конец салона в поисках свободного места.
Отыскать его не составило труда. Все места были свободны — и большинство останутся незанятыми почти до самого конца. Он двигался против потока. На другом конце маршрута, в Симферополе, толпы набивались в троллейбус, чтобы ехать к морю, но из Ялты в обратном направлении, движимая какими‑то своими сокровенными причинами, курсировала унылая горстка людей. И из них только он ездил каждую субботу, летом и зимой, в дождь и в ясную погоду, из года в год вот уже десять лет.
За это время периодически, на несколько недель или месяцев, беда приводила новые лица — то мужчина проходил курс химиотерапии в специализированной клинике, то женщина моталась ухаживать за больной матерью, а потом тёткой. Их присутствие в троллейбусе было временным, прискорбно временным, тогда как его присутствие было прискорбно постоянным.
Но об этом он со своими со‑страдальцами распространяться не собирался. Он скармливал им аналогичную печальную повесть. Он ездит к брату — тот раньше был успешным бизнесменом, а потом бандиты его искалечили, и теперь он сидит дома, влачит нищее существование. Такая история была доступна для понимания обывателей.
Сказать им, что на самом деле он ездит в Симферополь, потому что в шабат в Симферополе не хватает мужчин, которые бы хотели и могли ходить в синагогу, — не стоило, они бы сочли это нелепицей.
А погружаться в этнографию или оправдываться не хотелось.
Всё равно полностью оправдаться было невозможно. Если уж лгать, то лгать от начала и до конца.
 Синагога «Нер‑Томид», Симферополь Синагога «Нер‑Томид», Симферополь
Путь до Симферополя занимал три часа, троллейбус — его обгоняли все подряд — катился по равнинам, карабкался по холмам. Особенно медленно тащились старые троллейбусы, реликты хрущевской эпохи. Впрочем, не спешили и более современные модели — отдельного цвета для каждого десятилетия и режима, все как один похожие на грустных кузнечиков.
Так они и ездили взад‑вперед по этому триумфу советской инженерии — самой длинной троллейбусной линии в мире.
Триумф этот был типичен для Советов: масштаб здесь преобладал над здравым смыслом. Танкилевич столько раз проделывал этот путь, что, кажется, знал каждый его квадратный метр. Сейчас было лето.
Он заранее мог сказать, где вдоль дороги продают мёд в банках и связки красного ялтинского лука. Где на склонах раскинулись виноградники и пастбища с коровами и лошадьми, словно лениво застывшими на одном месте.
Где расположены бетонные автобусные остановки, рядом с которыми сидят на корточках черноглазые мужчины. Таково было однообразие, тягомотина дней, на которые он был обречён. Особенно это ощущалось на этой земле, на которой все они были обречены жить.
Некоторые счастливо умели закрывать глаза на жалкую действительность, держать под спудом своё знание о ней. Но ему в этом было отказано. Отказано умышленно, в знак отмщения. Он принуждён был наблюдать непреходящую беспросветность жизни, противостоять ей.
Ему исполнилось семьдесят, и каких только болезней у него не было: катаракта, аритмия, ишиас; он ощущал себя пленником — троллейбусов и своих измученных тела и души. Танкилевич решил, что больше так не выдержит. И сообщил Светлане, что готов хоть сейчас в петлю.
— Ну повесишься ты, и что тогда? Мне тоже в петлю лезть?
— Я больше не могу, — сказал Танкилевич, — я рехнусь.
— Тогда ступай к Нине Семёновне и кланяйся ей в ножки.
Так он и вознамерился поступить. Позвонил Нине Семёновне и попросил его принять. Занятая, немногословная, она, конечно, хотела всё решить по телефону, но Танкилевич стоял на своём. Дело слишком щекотливое, слишком важное, это не телефонный разговор. Нужна личная встреча.
Скрепя сердце она согласилась — догадалась, вероятно, о чём пойдёт речь, и, так и быть, решила с ним встретиться.
Сойдя с троллейбуса, Танкилевич пересел на местный автобус — он останавливался в километре от синагоги. Пятнадцать гривен за троллейбус и три за автобус — итого на круг выходило тридцать шесть гривен. За месяц набегало около ста пятидесяти гривен, приблизительно двадцать долларов США. От «Хеседа» они со Светланой получали сто долларов в месяц. И пятая часть из них уходила только на то, чтобы доставлять его тушу до синагоги и обратно. При мысли об этом Танкилевичу становилось худо.
На часах было самое начало десятого. Службы шли по графику и всегда начинались примерно в это время. Когда Танкилевич только начал ходить в синагогу, у них иногда даже набирался кворум, необходимый по еврейским законам. Но даже и тогда всё это была лишь пантомима. В присутствии десяти мужчин разрешалось читать вслух из Торы, но они никогда этого не делали. Тора у них была — свитки, пожертвованные евреями из Эванстона, — только никто не умел их читать. Из благочестия и чувства долга они раскрывали дверцы ковчега и смотрели на свитки. Раз в год, на праздник Симхат Тора, они вынимали свитки из ковчега. Открывали бутылку водки, клали свитки на плечи и танцевали с ними под аккомпанемент всех известных им ивритских и идишских песен.
Только Танкилевич даже уже и не помнил, когда в последний раз набиралось десять мужчин. Привычка открывать ковчег у них теперь стала традицией. Они знать не знали, что при отсутствии нужного количества участников на свитки строго воспрещалось смотреть, тем более брать их в руки. Но, вынужденные действовать в трудных условиях, они полагали, что Всемогущий будет к ним милостив и снисходителен...
Этот километр пути всегда его удручал.
Летом, даже в девять утра, жарило солнце. Когда Танкилевич наконец добирался до синагоги, его носовой платок успевал насквозь промокнуть. Зимой, если шёл снег, дорожка становилась скользкой и опасной.
Весной и осенью лили холодные, промозглые дожди. В любое время года, даже в самую хорошую погоду, на этом пути ничто не радовало глаз. Пригород, где находилась синагога, был одним из худших в Симферополе.
Даже по сильно снизившимся современным меркам, дороги и тротуары были в ужасающем состоянии. Дома тоже — жмущиеся друг к другу, неосвещенные, обшарпанные и разрушающиеся. Густо росли деревья и сорняки. Повсюду валялся мусор. В нём копались скелетообразные старухи и собаки. После полудня появлялись местные — пьяницы и матерщинники. В такое место евреи по большей части наведываться не спешили.
Да и тех, кто сюда ходил, становилось все меньше. Причиной тому была естественная убыль. Когда кто‑нибудь уходил — в последнее время преимущественно в вечность, — то никто его не замещал. Сначала их было семеро мужчин. Потом шестеро. А теперь, после смерти Исидора Фельдмана, осталось пять. Плюс еще две женщины — Маня Гринблатт и Шура Фейн.
Танкилевич прошёл мимо припаркованного фургона и сломанного стула и наконец добрался до синагоги.
Стены её облупились, краска на деревянных оконных рамах вздулась и пошла пузырями. Чтобы войти внутрь, нужно было обогнуть здание и пройти через широкие, для машин, железные ворота. По утрам в субботу их не запирали. За воротами начиналась узкая дорожка, отделявшая синагогу от соседнего дома — заурядного, неотличимого от других домов на улице. Синагога затерялась среди них, затаилась, как в худшие времена.
Непосвященным было и невдомёк, что это не просто дом. Выдавали его лишь люди явно еврейской наружности, плетущиеся туда в субботу поутру.
Как и ворота, боковую дверь не запирали. За ней начинался прохладный полутёмный коридор, где он наконец мог перевести дух. Здание тоже было бы в плачевном состоянии, но благодаря толстым стенам, выстроенным на совесть около века назад, успешно противостояло перепадам температур...
Несколько ступеней — и становились слышны голоса в молельном зале. Только это была не молитва, а привычные, прекрасно Танкилевичу знакомые споры и пересуды.
Он открыл дверь, увидел собравшихся и подумал: «Вот они, мои товарищи последних десяти лет. Даст Б‑г, я их больше не увижу — ну если только самому захочется».
Он прошёл на своё привычное место, за одним из двух столов красного дерева. Возле каждого стояло по три стула. Обычно другие два места за столом занимали Исидор Фельдман и Хилка Березов, брат Нины Семёновны. Но Исидор в прошлый вторник умер от инсульта, а Хилка, в свои пятьдесят четыре самый молодой и обеспеченный из них, запер свой магазин электроники возле железнодорожной станции и с женой и детьми махнул на неделю в Керчь. И Танкилевич оказался за столом в одиночестве. Моше Подольский, старый Наум Зискин и сын Наума Пиня занимали второй стол, ближний к биме, откуда обычно читают Тору.
Справа от них, на стульях у стены, как бы в своём отделении, сидели Маня Гринблатт и Шура Фейн.
Из четырёх высоких арочных окон на противоположной стене лился золотой свет. В этом свете — и в свете его грядущего ухода — молельный зал и люди в нём приобрели благородные очертания. Разруха, царившая в остальном здании и его окрестностях, сюда не проникала. Столы и стулья красного дерева были крепкими, сработанными на века. Бима и ковчег позади нее пережили самые темные времена. Их — что удивительно — не сожгли. Бима — возвышение со столом — была из лакированного черного дерева с проблесками позолоты. Таким же был ковчег, позолоченный и резной, с завесой из бордового бархата, отороченной золотой бахромой и расшитой золотом. С потолка свисали две хрустальные люстры. Стены были побелены, комната прибрана.
А что же его товарищи, осиянные этим светом?
История крепко припечатала их своей тяжкой дланью, но они затаились, ускользнули, выстояли и продолжили жить. С первого взгляда на их лица — выразительные еврейские лица — было ясно, что эти люди в жизни хлебнули немало. «Никто не сможет упрекнуть меня в том, что я не сроднился с этими людьми и с этим местом, — подумал Танкилевич. — Что я их бросил». Бросил ради чего? Ему самому первому будет очень сильно их не хватать...
Не успел Танкилевич занять свое место, как Моше Подольский поднял палец.
— Потому‑то я и уехал из этой страны! — заявил он.
Танкилевич сразу догадался, о чём речь. Об Израиле. Кровь быстрее потекла в венах.
Подольский, в защитного цвета армейской кепке, уже успел для пущей убедительности вскочить на ноги, чтобы Зискиным и женщинам, сидящим у стены, было его лучше видно и слышно. Чуть повернув голову, Подольский включил в число своих слушателей и Танкилевича.
— Что делают арабы? Швыряют камни. Нападают на мирных женщин и детей. Пускают ракеты. Куда идут их жалкие шекели, если уж они решают заплатить налоги?
В карман палестинских чиновников, которые — если это вообще возможно — ещё продажнее, чем наши, украинские.
Евреи же платят государству. В Израиле все платят налоги, да ещё из Америки поступают большие миллионы. А как государство этими деньгами распоряжается? Отправляет еврейских солдат выселять евреев из их домов.
— Вот именно, — сказал Наум Зискин. — Это только в Израиле еврею построить дом — преступление.
Даже больше, чем по службам, он будет скучать по этим беседам. С кем ещё такое обсудишь? В Ялте, где кругом одни гои, поговорить на подобные темы он мог разве что с собой. Даже у Светланы все эти еврейские разговоры вызывали бурное неприятие.
Подольский, урождённый Михаил, но переименовавшийся в Моше, в конце девяностых уехал в Израиль, но через три года вернулся в Симферополь. Почему он это сделал, для Танкилевича так и осталось загадкой. Подольский объяснял свое возвращение тем, что разочаровался в государстве — оно, мол, то и знай потакает американцам и арабам за счёт евреев. Достаточная ли это причина, чтобы из такой страны, как Израиль, вернуться в такую страну, как Украина?
Но Танкилевич, памятуя об огрехах собственной биографии, с расспросами не лез. В этой стране каждый человек теперь имел право и таиться, и подтасовывать факты. Утверждает Подольский, что уехал из Израиля по причине идеологических с ним разногласий, — значит, так оно и есть. А что для такого ярого сиониста немного странно было отказаться от жизни в Иудее и Самарии, променять Иерусалим и Хайфу на Симферополь — что ж, будем считать это его личным заскоком.
Подольский вернулся, когда ему было уже хорошо за сорок. С женой и сыном. С экономикой в Крыму тогда, в девяностых, дело обстояло ещё хуже. Можно ли было отважиться на столь рискованный переезд лишь из‑за недовольства израильской политикой?..
С тех пор сын его, по собственному почину, снова уехал в Израиль. Но Подольский остался. И не потому, что преуспел здесь. Он работал техником по теплоснабжению, жена — оператором в банке. Что их держало? Точно не любовь к Крыму, Украине, русским или татарам.
Жизнь Подольского вращалась вокруг иудаизма и Израиля. Он приглядывал за синагогой, отпирал двери утром по субботам. Носил армейское кепи защитного цвета в знак солидарности с еврейскими поселенцами. Пристально следил за развитием событий в Израиле, читал в интернете газеты на иврите. Не один Танкилевич задавался вопросом, что именно произошло у Подольского в Израиле. И что мешало ему вернуться туда, куда безусловно стремилась его душа?
Да, Израиль, и вопрос, почему они не там, относился к ним всем. Почему они не уезжают? Науму Зискину восемьдесят пять. Поздновато ехать, поздновато начинать новую жизнь. Пиня, его сын, так и не женился и по причине умственной неполноценности продолжал жить с родителями. Что с ним будет, когда Наум умрет? Сейчас они держались на плаву в основном благодаря репарациям, которые Наум получал от немцев. Не станет Наума — не станет и денег. У Мани Гринблатт муж был украинец и не горел желанием жить в Израиле. Шура Фейн, вдова, была такой же старой, как Наум Зискин, и вдобавок немощной. Дочь её вышла за русского и уехала в Сибирь. Хилка Березов из года в год размышлял, ехать ему или не ехать, и настроения его колебались в зависимости от того, насколько успешно шёл его электронный бизнес.
А Исидор Фельдман, человек с чувством юмора, заявлял, что давно бы уехал, но купил на еврейском кладбище участок рядом с женой и не хочет, чтобы его место занял посторонний. В случае Исидора вопрос отпал сам собой.— Израильское правительство — самый что ни на есть юденрат! — провозгласил Подольский. — Теперь это всем стало очевидно. Едва американцы и арабы издали приказ, как их еврейские подпевалы сразу взяли под козырёк. Обманывают себя гнусными отговорками в духе юденратов. «Мы делаем это, чтобы задобрить своих хозяев. Пожертвуем вот этими — их немного — не тронут остальных».
Что, мало про это написано книг? Или в истории раньше такого не бывало? Зачем тогда нужен «Яд ва‑Шем»? Он что, для того, чтобы Римскому Папе — поляку и папе‑нацисту было приятно туда приехать и произнести речь?
А если арабы возьмут верх? И юденрат сдаст им Иерусалим? Что тогда будет с «Яд ва‑Шемом»?— Станет Музеем сионистской оккупации, — из чувства солидарности сказал Танкилевич.
— Как бы не мечетью, — заметил Наум Зискин.
Вот что значит иметь твёрдую духовную основу. Наслаждаться прерогативой каждого человеческого существа — обществом единомышленников. В среде которых всё воспринимается подсознательно как‑то иначе, и это у них в крови. Это и вправду похоже на то, как все нервы ведут к единому мозгу, вены — к единому сердцу. И даже если ты с чем‑то споришь, ты споришь с самим собой. Единожды став своим, ты навсегда — свой. И ничто и никто, никакая сила в мире, не сможет это отменить.
И они ещё пятнадцать минут ругали очередной израильский кризис — это давно стало для них частью службы. Да и о чём всегда были их молитвы? О чём вообще молятся евреи? О чём они молились испокон веков? Об одном — о Сионе.
Вернуться в Сион. Собрать в Сионе народ из рассеяния. Увидеть наступление века Мессии и восстановление Храма в Сионе. И когда миллионы жили под властью царя, они жили ради Сиона. И оставшаяся здесь жалкая горстка евреев тоже жила только ради Сиона. И даже те, кто осел в Лондоне, Нью‑Йорке и Днепропетровске, — все жили ради Сиона.
А вот в самом Сионе жили не так.
Дэвид Безмозгис
Перевод с английского Олеси Качановой
Сообщение отредактировал Златалина - Вторник, 04.10.2022, 09:58 |
| |
| |
| Сонечка | Дата: Вторник, 15.11.2022, 09:44 | Сообщение # 576 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Статус: Offline
| Муж
Это было обычное хлопотливое утро, мужчина пришёл снять швы с большого пальца руки. Он явно очень спешил и сказал слегка дрожащим от волнения голосом, что у него важное дело в 9 часов утра.
Занявшись вплотную его пальцем, я не удержался и спросил: «У вас, наверное, назначен приём у врача, раз вы сейчас так спешите».
- Нет, мне надо успеть в больницу покормить больную жену.
На вопрос что с ней, мужчина ответил, что у неё, к сожалению, болезнь Альцгеймера.
Я снял швы, закончил обработку раны и, взглянув на часы, спросил, будет ли она волноваться, если он немного опоздает.
...мой собеседник ответил, что она, увы, не узнаёт его последние пять лет.
- Она даже не знает, кем я ей прихожусь, - покачав головой, добавил он.
Изумленный, я воскликнул: «И вы всё равно ходите туда каждое утро, даже несмотря на то, что она даже не знает, кто вы?»
Он улыбнулся и по-отечески похлопав меня по руке, ответил: «Она не знает, кто я. Зато я знаю, кто она».
Мурашки побежали у меня по спине и я подумал: "А ведь это именно та любовь, о которой я мечтал всю свою жизнь."
---
в ресторане...
Семья пришла в ресторан пообедать. Официантка приняла заказ у взрослых и затем повернулась к их семилетнему сыну.
- Что вы будете заказывать?
Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнёс:
- Я бы хотел хот-дог.
Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать:
- Никаких хот-догов! Принесите ему бифштекс с картофельным пюре и морковью.
Официантка проигнорировала её слова и спросила мальчика:
- Вы будете хот-дог с горчицей или с кетчупом?
- С кетчупом.
- Я буду через минуту, -- сказала официантка и отправилась на кухню.
За столом воцарилась оглушительная тишина.
Наконец мальчик посмотрел на родителей и сказал:
- Знаете что? Она думает, что я настоящий!..
---
Сын
Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел у окна.
Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха и вдруг восхищённо закричал:
- Папа, видишь, все деревья едут назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.
Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного сконфужены тем, что 25 летний мужчина ведёт себя как маленький ребенок.
Внезапно молодой человек снова закричал в восторге:
- Папа, видишь? Озеро и животные! Облака едут вместе с поездом!
Пара смущённо наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного...
Пошёл дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза. А потом воскликнул:
- Папа, идёт дождь, вода трогает меня! Видишь, папа?.
Женщина, сидящая рядом, спросила отца:
- Почему Вы не отведёте сына в какую-нибудь клинику на консультацию?.
И мужчина ответил:
- Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни обрёл глаза»...
Никогда не судите о делах и поступках других людей, ибо всей полнотой знаний обладает только Бог.
Не судите, да не судимы будете!
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 11:04 | Сообщение # 577 |
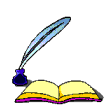 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 319
Статус: Offline
| В дверь позвонили. Звонили не так, как обычно - долго и протяжно. Я открыл, на пороге, полубоком, в профиль ко мне, стоял солидный мужчина, чуть старше меня, в шляпе, в бежевом плаще и с портфелем в руках. Он отстраненно смотрел в сторону лестницы. Мне показался знакомым его профиль.
- Квартира Мареевых?- спросил он, выдержав паузу. Я кивнул головой. Ничего удивительно в визите абсолютно незнакомого мне человека не было. Папу продолжали любить и помнить даже после его смерти. Сегодня отцу должно было бы исполниться 70.
- Я пройду...- то ли спросил, то ли утвердился в собственном желании мужчина. Не дожидаясь ответа, он протиснулся мимо меня в квартиру, неся впереди себя портфель.
Я пожал плечами: - Как будет угодно..
Он долго с интересом рассматривал гостиную - мебель, фотографии на стене, статуэтки.
- Вот значится, как жил Сергей Михайлович! - удовлетворительно сказал посетитель, радуясь за папу,- Вы не против? Он пододвинулся к столу и достал из портфеля бутылку коньяка, банку шпрот, лимон.
- Вам довелось поработать с моим отцом?- я поставил две рюмки.
- К сожалению, нет..- мужчина снял шляпу и положил её на стол. - Мне довелось его знать!- он неожиданно встал, как военный по стойке смирно и, склонив голову, представился :
- Константин Федорович! Наши глаза встретились. Он впервые за всё время посмотрел на меня.
- Николай,- ответил я ему.
- Помянем Сергея Михайловича! - снимая плащ, утвердительно предложил Константин Федорович. - Когда-то давно ваш отец работал в нашем городишке...- начал он разговор после того, как мы выпили. У меня ёкнуло под ложечкой. Нехорошая мысль проскользнула в голове. Неожиданный посетитель, судя по возрасту, вполне мог быть моим старшим, сводным братом. Он, заметив, как я напрягся, хлопнул дружески меня по руке и рассмеялся.
- Да нет, что вы! - шумно вдохнул носом воздух и мечтательно произнёс: - О таком только можно было мечтать!
- Мне 12 "стукнуло",- спустя время продолжил он,- Я записался к нему на хор, когда Сергей Михайлович появился в нашем Доме пионеров.
- Можно закурить?- вдруг резко спросил он, увидев пепельницу на столе. Я опять кивнул. Константин Федорович достал пачку дефицитных сигарет.
- Дом пионеров...Старое, одноэтажное здание. Секция борьбы и бокса, плюс танцевальный кружок и ещё рукоделия,- грустно сказал он, выпуская струю дыма в потолок. - В его кружок пришли всего три человека. Я и ещё две девочки. Сергей Михайлович прослушал нас и сказал, что слух у нас определенно есть. Потом посмотрел мне в глаза и сказал, что нужно много заниматься, чтобы что-то получилось.
- Я поверил ему. - Константин Федорович разлил коньяк по рюмкам.- Мне нравилось петь и не нравился бокс. Все мальчишки смеялись надо мной. Несколько раз даже побили!- рассмеялся гость,- Даже мама не одобряла..
Он долго рассказывал о своём детстве, про хор и моего отца. Мы выпили почти весь коньяк. На душе стало хорошо. Я почти не говорил, мне приятно было слушать про папу.
Я представлял его молодым и красивым, руководящим кружком пения в далёком и неизвестном мне Доме пионеров.
- А потом случился казус..- Константин Федорович затушил сигарету, - К празднику 7 ноября мы подготовили музыкальные номера. Мне выпало исполнять " Соловья" Алябьева. Оригинал был ваш отец. В нашем захолустье... и Алябьев..
- Помню, очень шумно было в зале,- Константин Федорович уткнулся взглядом в стол, вспоминая события того вечера,- Народ, после демонстрации и возлияний, никак не затихал. Девочки переволновались и кое-как отработали свои номера. Сергей Михайлович аккомпанировал нам на пианино.
А потом ведущая назвала моё имя...- Не помню, как вышел, как начал петь... Всё было, как в тумане...Пытался найти лицо в зале, чтобы сосредоточиться.
А потом кто-то свистнул и я услышал - Научите его петь!
- " Валенки" давай!
- Да он в ноты не попадает! - кричали мне отовсюду со своих мест. Кто-то смеялся.
Я видел как со стыда выбежала из зала моя мама...Зрители были правы! Как же я тогда фальшивил! Господи-прости! Но я старался. Изо всех сил! - засмеялся Константин Федорович, закрыв лицо руками.
Я смеялся вместе с ним, отчётливо представляя себе картину того вечера. Неожиданно его смех перешёл в плач. Плечи Константина Федоровича вздрогнули совсем по -детски. Послышались всхлипы. Я смотрел на него, не понимая, что произошло.
- Я готов был провалиться под землю..Сердце стучало в висках. Я дал себе слово, что больше никогда не выйду на сцену... - Он не стесняясь, грубо, по мужски, махнул ладонью по лицу, стирая слезы, - А потом стало тихо. Это Сергей Михайлович хлопнул крышкой пианино и затем, не спеша вышел на середину сцены, повернулся к зрителям и громко произнёс:
- Можно петь голосом, а можно петь душой. Сердцем. Только что мы имели возможность прикоснуться к Таинству. Не всем понятен сей промысел. На то оно и таинство...
- В ноты, говорите не попал?!- вдруг громко спросил он всех присутствующих.
- А сами всегда попадаете? Толпа притихла. - Это же дети,- он показал рукой в нашу сторону,- Ваши дети. Они только учатся. Это их первые шаги. Можно сказать, первый полёт!
Сергей Михайлович вдруг обратился к мужчине в первом ряду:
- Вот вы,- показал он рукой,- Вы громче всех смеялись. Я прошу вас выйти на сцену и что-нибудь нам исполнить! Хоть " Валенки". А я вам подыграю на пианино.
Человек заёрзал на месте и вжался в сиденье: - А чо я то? Я ничего..
- Тогда и нечего ржать, как лошадь Пржевальского!
Толпа засмеялась над своим товарищем. Сергей Михайлович подошёл ко мне, взял за плечи и громко, так, чтобы все услышали, сказал : - Это не ты в ноты не попал...Это ноты не смогли подстроиться под тебя...Или аккомпанемент. Извини, Костя, это моя вина...
Константин Михайлович встал и начал собираться. Уже в дверях он задержался. Ткнул в меня пальцем: - Похож на отца. Спасибо за всё. Если бы не он, не стоял бы я здесь сейчас...
Я вышел на лестничную площадку и долго провожал взглядом его удаляющуюся фигуру в бежевом плаще. Уже дойдя до низа, он остановился, снял шляпу и задрав голову крикнул мне: - Сергей Михайлович был прав! Иногда и вправду, ноты не успевают подстроиться! Можете мне поверить на слово! Я дирижёр!
Облокотившись на перила, я ещё долго стоял на площадке и вдруг вспомнил, откуда мне знаком сегодняшний гость. Его профиль часто можно было видеть на экране телевизора, во главе большого симфонического оркестра..
Рустем Шарафисламов
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Суббота, 03.12.2022, 06:13 | Сообщение # 578 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1453
Статус: Offline
| В Мише всегда жило два человека. Полчеловека в нем было русского — от мамы, учительницы языка и литературы, вторая часть — ненавистная ему — была от еврейского папы, которого он никогда не видел, но ненавидел... всю жизнь: за нос свой, за курчавость, за то, что он бросил маму, когда Миша еще не родился.
Мама была божеством. Это был первый человек, которого он увидел в этом мире. Она была для него первой женщиной, и даже после, когда он стал любить своих женщин, он всегда понимал, что они ее жалкая копия, и первые две жены, которых он привел домой еще при жизни мамы, всегда ей проигрывали и, в конце концов, уходили, забрав детей.
Мама была всегда. Когда он еще не мог ходить, он не мог пробыть без нее даже минуты, он сосал ее грудь почти до двух лет, и его отняли от ее сиськи, используя насилие. Ее грудь мазали горчицей, заманивали соской с медом, вареньем и сахаром, но он рвался к ее груди, которая его защищала своим теплом и нежностью, он плавал в ней, потом ползал по ней, плыл на ней, как на ковчеге, в непознанную жизнь и долго не мог пристать к своему берегу, не мог оторваться от маминой сиськи, — так говорили две бабки, мамина мама и ее родная сестра, у которых он смиренно оставался, когда мама ходила на работу, но он ждал, ждал, ждал и никогда не ложился спать, пока она не приходила.
Единственное, чем бабки могли его успокоить, были книги, они по очереди читали книги из большой библиотеки деда-профессора, все подряд — от античных трагедий до устройства мироздания, вторая бабушка читала ему сказки народов мира, а потом «Библию». Он научился читать в четыре года и потом уже сам читал все подряд, как ненормальный.
Он и был ненормальный для всех остальных детей во дворе и их родителей. Ну что можно сказать о мальчике, который во дворе не играет, ходит гулять только с мамой в парк, где они оба садились на лавочку, и оба открывали книги и читали, и грызли яблоки, и пили чай из термоса, а потом уходили домой?..
Миша долго держал маму за руку, и только в третьем классе он вырвал свою руку из маминой, когда влюбился в учительницу английского языка.
Он поступил в школу в мамин класс и был счастлив, что целый день мог видеть маму. Миша не мог ее подводить и учился, и был первым учеником, ему это было нетрудно.
В третьем классе он впервые узнал, что вторая половина его не всем нравится. Мальчик из соседнего класса сказал ему, что он жид. Миша знал, что есть такой народ — евреи, но он даже не мог предвидеть, что он, Миша Попов, имеет какое-то отношение к этому народу.
Он вернулся из школы задумчивым и несчастным, дома были только бабки — и они смущенно пытались объяснить ему, что все люди — братья, но его это не устроило, и когда пришла домой мама, усталая и с горой тетрадок, он не бросился к ней.
Миша всегда помогал ей, снимал с нее обувь и пальто, потом ждал, когда бабки ее покормят, и только уж потом садился с ней вместе проверять тетрадки, и это было их время, когда они говорили обо всем.
На этот раз он, выдохнув, выпалил ей:
— Мама, я что, еврей?
Мама вспыхнула и покрылась красными пятнами, потом вытерла сухие глаза.
Она ждала этого вопроса, но надеялась, что это услышит позже. Она не привыкла врать своему сыну и пошла в спальню. Вернулась через пару минут и закурила. Она никогда не курила при нем, не хотела подавать дурной пример, но сегодня у нее не было сил сохранять лицо.
Она молча показала Мише чужого мужика — толстого, кучерявого, с веселым глазом, он в одной руке держал гитару, а другой властно — маму за плечо.
— Это твой отец, — сказала она глухо. — Он живет в другой стране, у него другая семья.
И замолчала.
Миша с ужасом и отвращением смотрел на этого долбаного барда и сразу не полюбил его. Он просто понял, что одна его половина отравлена ядовитой стрелой, у него первый раз кольнуло в самое сердце, и он упал на пол.
В доме начался крик. Пришел доктор Эйнгорн, друг одной из бабок, он послушал Мишу и сказал, что это нервное и бояться не надо. Мишу уложили в постель, и круглосуточный пост из бабок следил за ним, как за принцем.
Он неделю не ходил в школу, но зато прочитал весь том энциклопедии, где были статьи про евреев.
Многое ему нравилось, но только до тех пор, пока образ далекого папы не закрывал горизонт, и тогда он кричал невидимому папе: «Жид! Жид! Жид!» — и плакал от отчаяния под одеялом.
С того жуткого дня он стал немножко антисемитом. Он издевался над Эллой Кроль, сидевшей с ним за одной партой.
Раньше он с ней дружил — она тоже много читала, неплохо училась, — но теперь она стала врагом его половины, и он стал ее врагом и мучителем.
Он истязал ее своими словами, он был в своей ненависти круче Мамонтова, который каждый день бил ее сумкой по голове и предлагал поиграть в «гестапо».
Элла молчала, не отвечала, пересела к Файзуллину и стала смотреть на Мишу с явным сожалением.
Ее родители, пожилые евреи, видимо, научили ее, как надо терпеть, и она терпела — единственный изгой в школе интернациональной дружбы, куда приезжали зарубежные делегации поучиться мирному сосуществованию.
Миша всегда выступал на этих сборищах со стихами разных народов, и ему хлопали все, кроме Кроль и Мамонтова, который подозревал, что Миша не совсем Попов, но в журнале в графе «национальность» у Попова стояла гордая запись «русский», сокращенная до «рус.».
Мамонтову крыть было нечем, но дедушка Мамонтова в прошлом был полицаем, и он научил его игре, в которую он играл на Украине в годы войны.
Они сидели на окраине городка и с сослуживцами на глаз выцарапывали из толпы беженцев — евреев. Дедушка Мамонтова имел такой нюх, что определял евреев, даже если в них текла восьмушка крови подлого семени, но он еще с десяти метров выщемлял из толпы комиссаров, и тут ему равных не было.
На исходе войны он убил красноармейца и с его документами стал героем. До сих пор ходит по школам и рассказывает о своих подвигах.
Мамонтова Миша боялся. Когда тот пристально смотрел ему в глаза, он всегда отводил взгляд и склонял голову.
Мамонтову он решительно не нравился, но мать Миши была завучем. И Мамонтов терпел, как человек, уважающий любую власть. «Власть от Бога», — говорила ему бабушка и крестилась при этом, и внучок тоже так считал до поры до времени.
Миша собирал металлолом без охоты, но с удовольствием ходил за макулатурой: там, в пачках, связанных бечевкой, он находил старые газеты, никому ненужные книги с ятем и много другого, чего другим было не надо. Он брал пачки макулатуры, шел в парк и застревал на долгие часы, разбирая пожелтевшее прошлое.
В том драгоценном хламе он многое нашел из времени, которое не застал, и многое понял из старых газет про свою родину; так он узнал про Сашу Черного, Аверченко, Зощенко и Блока, там были имена, которые в школе только упоминали, а он знал наизусть и удивлял учителя литературы, который даже не слышал о них.
Он перестал ходить в шахматный кружок, когда услышал от Мамонтова, что это еврейский вид спорта, и записался на стрельбу из лука.
Это редкий вид спорта, на который ходили в основном некрасивые девочки: когда натягивают тетиву, она должна упираться в середину носа, и у тех, кто занимался давно, нос был слегка деформирован, никакая красивая девочка такого себе не позволит. Робин Гудом он не стал, но, проходя по двору с такой амуницией, он имел авторитет у неформальной молодежи, которая сидела на террасе детского сада во дворе дома и пила вино под песни Аркаши Северного и других певцов уголовной романтики. С неформалами сидели их марухи, которые служили им поврозь и вместе.
Миша был отъявленным индивидуалистом и солистом по натуре. Один раз он ее уже испытал страсть: когда к ним в Тушино приехала кузина из Вологды, студентка пединститута. Она неделю шастала у них по квартире в трусах и без лифчика, считая Мишу китайской вазой. Бабки гоняли ее, но Миша успел рассмотреть ее анатомию почти в деталях, и, когда она уезжала, она прижала его голову к своей немаленькой груди, и у него голова закружилась, он чуть не потерял сознание, задохнувшись в ущелье меж двух ее выпуклостей.
Она уехала, и он еще долго помнил этот головокружительный запах духов и пудры на бархатных щечках.
Он даже написал стихи об этом переживании, подражая Есенину.
Он начал созревать, и тут с ним случилась катастрофа: у него появилась перхоть — мелкая белая пыль на плечах, от которой он никак не мог избавиться. Мамонтов отметил в нем эту перемену и сказал громко на весь класс:
— Попов — пархатый.
Все засмеялись, кроме Эллы, которая вроде даже его пожалела, но не подошла.
Миша вернулся домой и два часа мыл и чесал голову, белый снег сыпался с головы, и он отчаялся.
Пошел к бабкам на кухню искать спасения, бабки переглянулись и дали ему касторовое масло, которое он стал втирать каждое утро перед школой, и еще он стал мамиными щипцами расправлять волосы, он хотел прямые волосы, как у Звонарева, с челкой, но кудри завивались, щипцы не помогали.
Мама сначала смеялась над ним, а потом поняла его усилия и сказала ему, что кудри у тех, у кого много мыслей, и его волосы станут прямыми, как только мысли улетят от него к другому парню, а он станет дураком с прямыми локонами, и мужчине не стоит придавать такое значение внешности.
Он долго стоял против зеркала и смотрел на себя, он себе не нравился, его раздражало все: рост, вес, сутулость, перхоть, прыщи. Он хотел быть Жюльеном Сорелем из «Красного и черного», а в зеркале он видел толстого мальчика в очках, не похожего даже на Пьера Безухова, и еще перхоть.
Он накопил два рубля и пошел к косметологу в платную клинику. Женщина с фамилией Либман осмотрела его, потом заглянула в карточку, удивилась и сказала:
— Знаете, Попов, я могу выписать вам кучу мазей и лекарств, но у нас, евреев, это наследственное, у нас слишком много было испытаний, и это плата за судьбу. Относитесь к этому дефекту нашей кожи с другой точки зрения, считайте, что это горностаевая мантия, несите ее достойно, как испанские гранды, которыми мы стали после инквизиции, это знак отличия, а не физический недостаток. Я вас, конечно, понимаю, вы мальчик, вам нравятся девочки. Встречайтесь с нашими девочками, и у вас не будет проблем.
Он вспыхнул и сказал ей грубо:
— Я не еврей.
Хлопнул дверью и выскочил на улицу.
Доктор Либман, качая головой, сказала ему вслед:
— Ты не еврей, мальчик, но что делать, если все евреи похожи на тебя...
Мантия лежала на его плечах и доводила до исступления, он даже хотел побриться наголо, но посмотрел на голый череп физика Марка Львовича, которого обожал, и заметил на его лысине красные пятна и сугробы на плечах.
Он передумал и стал с этим жить. Он умел усмирять себя, находил аргументы и терпел свое несовершенство с тихой покорностью.
Окончив школу на год раньше, Миша поступил в университет на филолога и окунулся в чудесный мир слов. Он плыл в этом море, как дельфин, постигал его пучины и бездны, проникал через толщи лет и эпох — Миша был в своей стихии. Он пробовал писать в какие-то журналы, его даже напечатали, и Миша был счастлив. Его бабки купили сто журналов с его текстом и раздали всем знакомым.
И был ужин, где его семья — самые любимые женщины — пили какое-то дрянное винцо. Мама ему налила настойки, и он первый раз выпил за первый гонорар. Миша был счастлив, но утром пришла повестка.
В тот год студентов стали брать в армию. Старухи заплакали. Они помнили войну, их мальчики остались там, а они остались в этой жизни одни без любви.
Маму бабка родила без любви, из благодарности к деду-профессору, который спас их от военных невзгод.
Бабки рыдали, мама звонила доктору Эйнгорну, и он обещал подумать. И тогда Миша встал и сказал:
— Я иду, как все, я прятаться не буду, я не еврей какой-нибудь.
И дома стало тихо. И все поняли, что он не отступит. И он пошел.
Он попал в подмосковную дивизию, в образцово-показательную часть, и наступил ад.
Из ста килограммов за месяц он потерял двадцать, за следующий — еще пятнадцать; он два раза хотел повеситься; он падал во время кросса, и все его ненавидели, и он вставал, и его несли на ремнях два сержанта, а потом били ночью хором, всей ротой, но он выжил, он не мог представить себе, что его привезут домой в закрытом гробу и все три женщины сразу умрут, и он решил жить, и сумел. Через два месяца его забрал к себе начальник клуба, и жизнь приобрела очертания. Приехали мама и старухи и не узнали его: он стал бравым хлопцем — стройным, курящим и пьющим, он уже стал мужчиной, с помощью писаря строевой части Светланы, женщины чистой и порядочной, сорокопятки, так она называла свой возраст.
Она взяла его нежно и трепетно, с анестезией: заманила на тортик из сгущенки и печенья, а в морсик щедро сыпнула димедрольчика, и он стал мужчиной и ничего не почувствовал. Потом еще пару раз она брала его силой. А потом он сказал ей, что ему хватит, и она перешла к следующей жертве, коих в полку было у нее лет на триста.
Он стал выпивать вполне естественно, курить папиросы и выпускал один полковую газету «На боевом посту». Так прошло два года, и он вернулся ровно 17 августа 1991 года и попал в другую страну.
Страна вступила в эпоху перемен. Он проспал сутки, а потом купил в киоске пачку газет, засел в туалете и вышел с твердым убеждением, что грядет революция, и она случилась ровно через сутки.
Он пошел к Белому дому и попал в первые ряды защитников. Увидел людей, которых раньше не знал. Он чувствовал, что они есть, но вот реально увидел первый раз, их были тысячи, их были тьмы и тьмы, и они собирались стоять до конца.
А потом была ночь с 19-го на 20-е, и пошли танки, и три парня, с которыми он познакомился на баррикадах, легли под танки, и танки сделали из живых мальчиков, ровесников его, бессмысленных жертв и героев.
Их подвиг помнят безутешные родители и совсем немного людей. Те, ради кого они погибли, стараются реже о них вспоминать, люди не любят долгих страданий. А мальчиков нет, и их родители каждый день жалеют, что пустили их во взрослые игры, не закрыли дома.
Были бы тверже — были бы с детьми, а теперь у них есть посмертные ордена и гранитные памятники, где их дети смеются каменными губами...
Сначала рухнула одна бабка, следом за ней — другая. Рухнули, как колонны в аквапарке, и похоронили вместе с собой Храм его семьи.
Они с мамой стали жить вместе с его новой женой и дочкой, и квартира, которая осиротела, сразу наполнилась топотом детских ножек и криком, который звучал музыкой. Мама полюбила девочку со звериной силой, ее нельзя было оторвать от нее, она даже обижала жену, которая тоже желала любить своего ребенка, но бабушка решила, что родители могут только испортить девочку. Она терпела выходные, когда они болтались дома, зорким соколом смотрела, чтобы они ее не повредили и не отравили, в будние дни царила, вцепившись в девочку, как в спасательный круг своей уходящей жизни.
Когда девочка подбегала на нетвердых ножках, бабушка топила свое лицо в ее кудряшках, пахнущих ее детством, и теряла сознание, и не могла с ней расцепиться. А весной она увезла ее на дачу, где ей никто не мешал пить бальзам ее щечек, волос, ручек и ножек.
...Когда Миша встречал признаки еврейской темы в любом разговоре, он становился неистовым. Болезненно и странно много читал по этой теме, пытаясь понять природу своей ненависти.
Аргументов было полно и в жизни, и в книгах: толпы евреев жили в истории разных народов, их гнали, мучили, но они восставали и на пустом месте становились богатыми, влиятельными и сильными. Их было мало, но они всегда занимали много места в чужих головах, их слова, музыка и книги смущали целые страны и народы, и, в конце концов, им всегда приходилось уходить и все строить заново.
Его учителя-евреи в школе были замечательными людьми, они не торговали, не давали деньги в рост, не крутили и не мутили, они просто учили детей и жили бедно, как все, он искал в них что-то тайное, липкое и нехорошее — и не находил, он даже любил своих учителей, и даже стыдился этого.
В университете у него тоже были профессора-евреи, которых он очень уважал и видел их жизнь, ничем не примечательную. Он знал врачей и инженеров, соседей и знакомых и не находил поводов для ненависти, и тогда он перестал искать врагов вокруг себя и стал искать их в истории, и нашел.
Пытливому глазу стали попадаться книги, где евреи представлялись чудовищами. В России они сделали революцию и разрушили империю, и это его успокаивало. В своих поисках он иногда чувствовал себя ненормальным, но книги, где вскрывалась подлая суть предков его отца, его усмиряли, он временно успокаивался, но проходило время, и вулкан ненависти опять плевал черную лаву немотивированной злобы к людям, которых он считал недочеловеками, и ему очень помог Гитлер со своей яростной книгой «Майн кампф», где доводов нашлось достаточно, но убийства, как культурный человек, он не одобрял, хотя целесообразность окончательного решения еврейского вопроса, как ученый, понимал.
Ему было противно, что его православная вера была вынуждена ковыряться во всех этих Моисеях, Исааках, Ноях, Эсфирях, Суламифях, Давидах и Голиафах — зачем это нужно русскому человеку, зачем ему эти мифы и легенды чужого народа...
Он даже спросил своего священника: «Разве мало нам Нового завета?» — и тот ответил, что такой вопрос верующий человек задавать не должен, вере не нужны доказательства.
Ответ его не убедил, он не мог все это принимать на веру, видимо, еврейская часть его вынуждала все подвергать сомнению, и тогда он решил — исключительно с научной целью — пойти в синагогу и поговорить с талмудистами.
Такое решение он принял спонтанно, когда шел в аптеку на Маросейку за гомеопатическими каплями для ребенка: бабушка помешалась на гомеопатии и внучке давала только микроскопические горошины от всего. Девочка была здорова. Но кто лучше бабушки знает, что давать свету очей...
Он беспрекословно поперся в аптеку от Китай-города по Архипова и оказался у дверей синагоги.
Миша решил, что это судьба, и толкнул тяжелую дверь.
За дверью оказалось вполне мило, в зале никого не было, служба закончилась, лишь за столом, как ученики, сидели люди и изучали недельную главу Торы. Он сел тихонько за стол и стал слушать молодого раввина. То, что тот говорил, Мише было чрезвычайно интересно, и он увлекся. Он знал историю Иисуса Навина и эту сказку, как он остановил закат солнца во время битвы, верить в это он не желал, но как художественный образ его это удивляло своей поэтичностью и страстью.
После урока Миша подошел к молодому раввину и стал спрашивать, но тот его перебил и спросил, не еврей ли он. Миша ответил, что нет. Раввин ничего не сказал, но привел в пример притчу. О том, как евреи в Испании во времена инквизиции вынуждены были под пытками принимать чужую веру и предавать завет отцов, но ночью, когда город спал, они собирались в подвалах и молились своему Богу, те, кто переходил в чужую веру, не осуждались и могли в любое время вернуться к своим без кары и раскаяния.
Он понял, что рассказал это раввин для него, ничего не возразил и вышел на улицу. На него по всей дороге в аптеку пялились люди, а он не понимал почему.
На улице было жарко, и он расстегнул рубаху, на груди его сиял нательный крест, на голове была кипа, которую он надел при входе в синагогу.
Он встал, как соляной столп, как сказано в Библии, ни гром, ни молния не поразили его, он сорвал кипу с головы, поцеловал крест, и у него второй раз в жизни заболело сердце.
Миша стал популярным телеведущим. Его стали приглашать на разные сборища с иностранцами, где он отстаивал с пеной у рта Святую Русь. Его пылу удивлялись даже святые отцы из Патриархии, и Миша услышал однажды, как один толстопузый митрополит сказал шепотом другому: «А наш-то жидок горяч», — и ему стало дико противно, и он перестал ходить в храм, обидевшись на чиновников от Господа Бога.
Он встречался с западными интеллектуалами, вел с ними жаркие дискуссии о мультикультурности и мировом заговоре масонов и евреев, боролся с тоталитарными сектами и мракобесием и написал книгу «Мы русские, с нами Бог».
Ее все обсуждали, особенно то место, где он объяснил, что еврей может быть в десять раз круче русского в десятом колене, если его принципы тверды, как скала.
На встрече с читателями его поддел карлик из еврейского племени вопросом: «А не тяжело ли предавать отца, давшего жизнь?» Он не выдержал, сорвался на крик, карлик смеялся и обещал, что его первым сожгут на костре инквизиции хоругвеносцы, которые уже составили списки скрытых евреев.
Однажды он обедал с американским профессором-славистом, и он тоже задал ему нетрадиционный вопрос о евреях России. Профессор не хотел его оскорбить, он ничего не имел в виду, но Миша завелся и спросил его в ответ про Америку и ее евреев.
Профессор, рыжий ирландец, привел ему одну байку, которая описывает место евреев в Америке: с ними обедают, но не ужинают. Миша все понял, и свой ответ застрял у него во рту.
Самое сильное испытание его веры случилось в театре «Ленком», куда его привела жена на спектакль «Поминальная молитва».
Там, на сцене, между синагогой и храмом, рвал сердце маленький русский человек Евгений Леонов, который играл старого еврея в своей вечной трагедии, которую евреи любят тыкать всем в морду. Но самое главное было в том, что на сцене рвалась душа главного режиссера, который не знал, как выбрать между мамой и папой. Она была с русского поля, а папа — с другого берега, а он не мог выбрать, с кем он, кто он и в каком храме его место.
Увиденное его потрясло. Миша видел того режиссера по телевизору, и его внешний вид не вызывал сомнения у зрителей, какого поля он ягода.
В душе все обнажено, и все свое смятение режиссер вложил в этот спектакль, он искал ответа на свой главный вопрос и не находил его. И тут у Миши третий раз закололо сердце, да так сильно, что он даже чуть не задохнулся от этой боли.
А осенью свет померк: умерла мама, тихо, вечером. Она уложила спать свою чудо-девочку и села смотреть телевизор, а потом вздохнула, сползла с кресла и больше не дышала. И тогда Миша замолчал.
Миша не помнил, как ее хоронили, дом был полон каких-то людей, но его с ними не было.
Целый год он почти не выходил из дома, не брился и не смеялся, почти не работал, делал лишь самое необходимое, чтобы заработать на еду.
Только когда маленькая девочка заходила к нему в комнату на цыпочках и клала свои ручки на его голову, на несколько минут пожар в его голове утихал. Так продолжалось целый год. Ровно год он носил траур: «Так принято у евреев», — сказал ему коллега одобрительно, и он сразу очнулся.
Миша не ездил на кладбище — что он мог сказать камню, который стоял вместо нее среди чужих могил? — в нем оборвалась какая-то нить, удерживающая его в равновесии.
Миша чувствовал себя сиротой, он физически чувствовал себя одним на свете, и только девочка с ручками, снимающими его боль, удерживала его. Он начал работать, чтобы не сойти с ума, и сделал хорошую телепередачу, имевшую бешеный успех, и получил ТЭФИ, ему стали платить приличные деньги, он отремонтировал дачу и стал там жить почти постоянно, часто один жил там неделями.
Скоро после триумфа он впервые поехал в Израиль как член жюри какого-то конкурса. Смотрел там на все с опаской. Неприятности начались еще в аэропорту, когда службы контроля задавали ему тупые вопросы и совершенно не реагировали на его возмущения и протесты. Миша кипел и лопался от злости, а они все спрашивали о целях его приезда и в каких он отношениях с переводчицей, сопровождавшей его. Он не понимал, что им надо, что они ищут в его компьютере и почему десять раз в разных вариантах спрашивают его, есть ли у него родственники в Израиле.
Когда в одиннадцатый раз девушка-офицер опять спросила его про родственников, он ответил с жаром и яростью, что, слава Богу, нет, и дал повод своим ответом еще на серию вопросов, не антисемит ли он и есть ли у него друзья-арабы.
И тогда он вскипел, как тульский самовар, и понес их по кочкам. Миша припомнил им все, но, на счастье, девушка, знавшая русский, отошла к другому туристу, а марокканцу его переводчица переводила совсем не то, что он говорил, и странно, что через пять минут его пропустили.
Миша был в святых местах; он бродил по Иерусалиму, но ему не было места ни у Храма Гроба Господня, ни в мечети Омара, ни у Стены плача, он не чувствовал себя в этом месте своим.
Ему все казалось, что он в Диснейленде мировых религий, где все желают только сфотографироваться на фоне святынь.
Он видел только пыльный город, и у него разрывалась голова, как у Понтия Пилата из хорошей книжки Булгакова, которую он считал переоцененной.
Миша чувствовал себя неуютно с чужими людьми, совсем не похожими на людей в Москве, которых он понимал с первого взгляда. Они могли ничего не говорить, он и без слов знал, что они сделают и что скажут в любой момент. Его не трогал берег моря, само море, и только шум базара у окон гостиницы по утрам занимал его, когда жара еще не растапливала его мозг слепящим солнцем. В такие часы он выходил на улицу и шел на рынок Кармель, где торговцы раскладывали товар, они были разноязыкими, разной веры и разноцветными, но, видимо, ладили и даже дружили, как члены одной корпорации.
Коты разных мастей бродили в рыбных и мясных рядах, и никто их не гнал, и они получали свою долю при разделке свежих продуктов.
Через рынок шли пьяные проститутки с соседней улицы, они закончили трудовую вахту и шли к морю смыть чужой пот и сперму, всю грязь, приставшую к ним за ночь.
Они покупали себе на завтрак овощи и горячие булки, сыр и что-то похожее на кефир, они брели на еще пустынный пляж и мылись там голышом, и рабочие из стран паранджи и бурнусов смотрели на голых теток, пьяных и веселых, они смотрели, как они моются и как они едят свой горький хлеб.
В аэропорту, когда он уже улетал в Москву, к нему подошли два человека — мужчина сорока лет, напоминавший ему кого-то очень знакомого, и милая девушка в форме офицера полиции. Они поздоровались, и мужчина спросил на очень плохом русском, Миша ли он, и добавил при этом длинную еврейскую фамилию, вившуюся у него во рту всеми своими двенадцатью буквами. Фамилия Мише не понравилась длиной и количеством букв, а особенно буквосочетанием с окончанием на два Т.
— Нет, — ответил Миша почти вежливо и отвернулся...
Пара переглянулась, и в разговор вступила девушка-офицер, похожая на тех, кто отравлял ему жизнь в аэропорту на прилете. Она показала ему фотографию мужика, которого он знал, он знал его всю жизнь, он выучил все его детали, он часто тайком от мамы доставал фото из железной коробки, где лежали документы, и изучал его, пытаясь понять, как этот человек оказался его отцом, как такое несчастье могло случиться... Он разглядывал фото часами, он мечтал встретить его и сказать ему все слова из своего немаленького словаря о том, что он тварь и законченный подонок. О том, что какое он имел право приблизиться к маме, как он сумел совратить ее своей гитарой, своей подлой улыбкой и словами, которые должны были взорвать его и вырвать ему язык... Он знал, что должен был сказать ему, эту речь он учил все свои сорок пять лет, и он знал, что по ненависти и страсти ей место в Нюрнбергском процессе, когда-то Эренбург, писавший на процессе, написал статью «Я обвиняю».
Девушка увидела, что с ним происходит, дала ему передохнуть, а потом мягко и застенчиво стала говорить такое, что у Миши в четвертый раз кольнуло в сердце, и он почти задохнулся:
— Мы ваши родственники, ваш папа — наш отец, и он умирает, мы просим вас поехать к нему попрощаться, это его последнее желание.
Она замолчала. Миша хотел крикнуть им, что ему не нужны новые родственники и объявившийся папа, что он всегда желал ему сдохнуть в страшных судорогах, ему хватает своей семьи и чужого не надо.
Он уже открыл рот, но не сумел, откуда-то ему пришел сигнал, с какого места, он не понял, но рот его замкнуло большим замком, и он безмолвно пошел за ними к машине.
Пока они ехали в клинику, Лия (так звали девушку) рассказала, что их отец лежит с инсультом и говорить не может; она еще рассказала Мише, что отец часто говорил своим детям о нем, он первые годы часто писал его маме, но она не отвечала, он отмечал его день рождения много лет, говорил детям, что у них в Москве живет брат и он умный и талантливый.
Миша слушал эти слова, и они ему казались бредом, он не понимал, кто эти люди, которые называют себя его родными, он не понимал, зачем он идет к незнакомому, чужому старику, умирающему в чужой стране, человек не может умирать два раза, он своего отца давно похоронил, и ему нечего делать в царстве мертвых, у него там уже все, кого он любил, но он ехал со страшным, губительным интересом, он в какой-то момент захотел увидеть раздавленного болезнью старика, посмотреть на причину своих страданий, потешить свою месть, увидеть возмездие человеку, кровь которого, отравленная его ядом, не давала ему жить все эти годы.
Они приехали и пошли огромной лестницей на четвертый этаж, где была реанимация, перед входом в палату он вздохнул, но вошел решительно.
На высокой кровати лежал старик, большой, крупный человек с серебряной бородой, лицо его было спокойным, глаза были прикрыты. Лия подошла к кровати и, встав на колени, поцеловала старику руку, он открыл глаза, и Миша понял, что он его видит и понимает, кто он.
От его взгляда в нем что-то вспыхнуло, забурлило, щемящая жалость пронзила его, и он заплакал, страшно, содрогаясь плечами, не стесняясь, завыл как воют евреи на молитве в особые минуты, он встал на колени рядом с Лией и поцеловал руку своему папе, которого он так ждал многие годы, которого он ненавидел и любил. Слезы лились водопадом, все слезы, которые он держал в себе годы, выливались из него, дамба, которую он возвел титаническими усилиями, рухнула, и слезы затопили всю его душу, он плакал: за маму, за себя, за этого старика, который лежит неподвижно, он плакал за всех.
В палате тоже рыдали все — его сводные брат и сестра, Дан и Лия, плакал Моше, так, оказалось, звали его отца.
А потом стало тихо, на экране прерывистая линия стала прямой, прибежали врачи и сказали, что Моше отмучился. Вскоре его увезли, и дети поехали домой, готовиться к обряду.
Когда они вышли, силы оставили Мишу, и он упал на крыльце. Начался переполох, завыла сирена, и его увезли в клинику с инсультом. Он был в коме все семь траурных дней. И очнулся, и понял, что правая сторона его тела умерла, он всегда считал ее маминой, он всегда маленький спал с ней с правой стороны, и эта сторона отказала первой, мама умерла первой, и первой разорвалась с ней нить, удерживающая его на этом свете.
После двух месяцев безнадежной борьбы врачей за мертвую часть тела его выписали, и он оказался в доме своего отца, в его комнате с окном-дверью на крышу, где он сидел вечером и ночью.
Он почувствовал, что, когда мамина русская часть в нем умерла, ему стало спокойнее, в нем установился баланс.
Когда он полз в туалет, держась за коляску, он нес на здоровой руке и ноге мертвую часть своей русской души, он не чувствовал ее веса, папина воля придавала ему силы.
Когда он был на двух ногах, в нем не было баланса и равновесия, а теперь, когда мама и папа на небесах, у него тлела в душе тайная надежда, что они там уже встретились и все друг другу сказали, поплакали и помирились. Он чувствовал, что они помирились: стало вдвое легче носить свое полумертвое тело, душа держала его равновесие, и при всем ужасе произошедшего, он был счастлив тому, что нашел отца.
Его часто возят на кладбище, где стоит простой камень, на котором на иврите выбито имя человека, которого он знал так мало, но любил всегда.
Валерий Зеленогорский
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Вторник, 06.12.2022, 07:16 | Сообщение # 579 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 677
Статус: Offline
| Москва, смеющаяся Россия, русский Израиль, постаревший Брайтон-Бич - все его знали как автора гомерически смешного сборника рассказов "В лесу было накурено".
С пачкой сигарет на обложке.
Пачки с каждой новой книгой становились другого цвета. Кровь сменила зелень, потом - грозовое небо и блеск неона. Пять или шесть книг сказок про горькую быль. Почему он начал с сигарет, сделав их литературными персонажами?
Он дышал через дым. И писал так же. Как на передовой. Отчаянно смелый, словно лётчик. Писал потому, что не мог понять, как жить с тем, что есть.
И внешне, и внутренне был похож на Чарльза Буковского. Он не врал. И всё понимал про душу маленького человека.
Он всегда был ироничен по отношению к себе. Вероятно, потому, что сначала выучился постигать тайны механизмов. Всегда удивлялся, когда обнаруживал те же механизмы в душах живых людей. Различал друзей по тому, сколько правды те понимают, а сколько - говорят. После Перестройки первый привёз в Витебск новый театр и уехал вместе с ним обратно. Стал театральным антрепренёром, это была его среда.
Но там не штормило, а ему нужна была буря.
Когда стукнуло 50, он всё бросил и начал писать. Про себя: "Не работаю - учусь". Постигать механизмы души. Его первая проза "В лесу было накурено" произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он описал смешную жизнь не театрального человека, который помогает театральным людям. Это было невероятно правдиво.
Изредка я встречал его в ресторане ЦДЛ: Валерий заходил со своим другом Львом Новожёновым. Я к ним подсаживался, и мы молчали по три часа, потом вставали и расходились. В этом был какой-то буддийский смысл. Нужда в итогах, которые Валерий Владимирович подводил только, когда писал. После каждой новой книги ему звонили кинопродюсеры, просили инсценировать рассказы. Он неизменно отказывался. Говорил мне: "Может, ты возьмешься?".
Его книга "Мой народ" была о советских евреях.
Сам Гринберг-Зеленогорский считал, что поколение его и его родителей "не получило осмысления в литературе", "потому что всё закончилось Гроссманом и Рыбаковым, но это другой период, довоенный и военный".
А он писал о евреях второй половины ХХ века. О евреях, советских людях, проживших свою жизнь. "Она ничем не отличалась от жизни литовца или калмыка. Я имею в виду социально-бытовой аспект. Но у нас был пресс, внешний и внутренний. Мы жили в заповеднике, где был корм, дорога к водопою. Но мы прикладывали ухо к земле, чтобы узнать, не идут ли за нами наши гонители. В этом вся разница", - отмечал прозаик.
Его ценили очень многие издатели. Но в писательской тусовке Валера не состоял, не хотел. Про друзей говорил: "Мои друзья… некоторые весьма приличные люди". В последнее время писал: "У меня сплошные сопли, я пока побуду дома, ты знай, я рядом". Он всегда умел быть рядом. Как часовой.
Был ли он на кого-то похож? На своего отца, а ещё на всех, кого он ценил.
"Если в моей памяти я хочу представить своего папу, я всегда вспоминаю вельветовые штаны, которые он носил несколько лет, а потом уже лицо, взгляд, походку, слова и жесты. Я совсем не помню его молодым. Он родил меня и брата-близнеца в возрасте 28 лет, старшему брату было уже семь, и рождение близнецов стало событием. Мама хотела одну девочку, а получила двух мальчиков, появившихся на свет с интервалом в 20 минут.
По семейному преданию, я шёл последним, и сегодня я ощущаю себя особенным, на что всегда обижался мой брат, которому всегда доставалось меньше.
Папа мой родился в Польше, семья была большая, много братьев и сестёр. Все работали в порту грузчиками и возчиками, были здоровыми, пили крепко, много ели, в семье никто не имел образования, женщины сидели дома.
Кроме школы при синагоге, никто нигде не учился, носить мешки и водить кобылу можно было и без образования.
Религиозного экстаза в семье отца не было. Традицию соблюдали, в субботу не работали, свинину не ели. За стол в субботу садились всей семьёй, читали молитву и выпивали…
Во время войны вся его семья сгорела в печах Рейха. Уже в нынешнее время мой старший брат выезжал в Польшу искать следы погибшей семьи отца - никаких следов не нашлось. Прятать концы в воду и жечь людей наши немецкие партнёры умели хорошо".
Пришло время читать его прозу внимательно.
Дмитрий Минченок
|
| |
| |
| Рыжик | Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 09:17 | Сообщение # 580 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 299
Статус: Offline
| почти притча...
Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя младших классов. Он подошёл к старику и спросил:
— Вы меня не помните? Я был вашим учеником.
— Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?
— Я преподаю. Вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось воспитывать юных учеников.
— Да? Позволь мне полюбопытствовать, в чём же выразилось моё влияние?
— Вы на самом деле не помните? Разрешите мне напомнить:
Однажды мой одноклассник пришёл в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители.
Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы и не удержался, решив взять их... Вскоре тот мальчик подошёл к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказали -
«Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их».
Мне стало очень стыдно, но я не желал расставаться с часами, так что не признался.
Вы направились к двери, заперли её и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: «Я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза». Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни.
Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда.
Затем вы сказали: «Дети, всё в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам».
Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышного ребёнка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, ещё не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом.
Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил:
— Когда Вы меня увидели сегодня, разве не вспомнили об этом эпизоде?
Старый учитель ответил:
— Дело в том, что я обследовал карманы тоже ... с закрытыми глазами.
(Покрой грехи ближнего, и Бог покроет твои)
Сообщение отредактировал Рыжик - Воскресенье, 08.01.2023, 09:18 |
| |
| |
| несогласный | Дата: Суббота, 11.02.2023, 09:43 | Сообщение # 581 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| Ангел Дима
Этот ангел так всем надоел, что его отправили на Землю. Сказали: «Займись там человеческим делом. Может, перевоспитаешься. А здесь ты нам не нужен. Крылья забираем».
Ангел был просто раздолбаем.
Другие занимались ангельским делом: спасали, охраняли, уберегали от опасностей. А этот бездельничал и пел дурацкие песенки своего сочинения.
Низвергшись с неба, ангел обнаружил себя ночью в областном центре посреди России.
Серьёзное наказание.
Ангела в грязной хламиде подобрала машина полицейских и доставила в отделение. Документов при себе у него не было, как легко догадаться.
– Имя? – спросил дежурный.
Ангел взглянул на экран телевизора в глубине комнаты, увидел там клип Билана. И ответил:
– Пусть будет Дима.
– Фамилия?
– Да зачем она мне?
Он выглядел так жалко, что его даже не били. К тому же перегаром от ангела не несло. Посадили за решетку. Среди ночи ангел Дима от скуки запел. Дежурный сержант вдруг поднялся:
– Ты что?
– Пою.
Если бы Дима был человеком – его бы точно побили. Но пел же он ангельски. И дежурный сержант Букин почувствовал: с ним творится что-то не то. Он потребовал:
– Продолжай!
Через десять минут сержант плакал, слёзы капали на протокол. Сержант плакал о том, что его бросила девушка, но он сам виноват, что не видел маму полгода, а она больная, с гипертонией, что он сидит в этой дыре, а мечтал стать лётчиком, что вчера он зачем-то избил бомжа, и надо бы его найти, извиниться…
Когда Дима закончил петь, сержант Букин сказал:
– Есть где жить? Можешь у меня. Я один всё равно.
И ангел Дима поселился у сержанта. Букин отвёл Диму в кафе недалеко от дома, прямо к директору Ашоту, сказал, что Дима готов работать официантом.
– Отлично! – воскликнул Ашот.
– А что такое официант? – спросил Дима...
…Так ангел Дима стал официантом. У Ашота накануне уволился последний: слишком маленькая зарплата. И Диме был рад. Зарплата его не волновала, ангелы же ничего не едят.
Дима был ужасным официантом. Он ронял тарелки, путал заказы, смахивал крошки прямо на клиентов. Раздолбай же.
Но директор это терпел, выбора не было. Положенные ему обеды Дима складывал в коробочки и приносил тёте Шуре, соседке по подъезду. Старушка была после инсульта и почти не ходила.
Однажды вечером в кафе пришла девушка. Она просто замёрзла, попросила у Димы капучино.
Девушке некуда было спешить, её никто не ждал.
А за столиком у окна сидел парень в очках, со своим ноутбуком. Он хотел писать курсовую по физике, но вместо этого просто смотрел на дождь. К нему подошёл Дима:
– Так вы что-то будете?
– М-можно я посмотрю м-меню? – да, парень заикался.
Он долго выбирал, наконец попросил «м-малиновый чай». И, конечно, Дима всё перепутал, раздолбай же. Получив не свой чай, девушка посмотрела на парня, который не знал, что делать с чужим капучино. Девушка взяла чашку, отнесла её очкарику, улыбнулась:
– Этот официант всегда путает. Я возьму свой кофе?
– К-конечно! – ответил парень. – Из-звините.
– Да вы тут причём? А вы любите чай с малиной?!
…Через пять минут они сидели напротив друг друга. Очкарик пытался объяснить, о чём его курсовая по физике, очень смущался.
– Вы так мило заикаетесь, – сказала девушка.
– Д-да? А у вас к-красивые глаза. Из-звините.
Из кафе они ушли вместе.
Дима стоял на крыльце, покуривал (да, пристрастился тут) и провожая их взглядом думал: «Людям почему-то хочется быть вместе… Странные. Но милые».
А спустя несколько дней за тот же столик у окна села другая пара, муж и жена.
Они были вместе три года. Потом дико поссорились, так что даже удалили из телефонов номера друг друга. Разъехались. С трудом условились встретиться, чтобы обсудить развод.
– У нас десять минут, – сказала она.
– Лучше пять, – ответил он.
– Я могу сразу уйти.
– Давай, иди!
Она поднялась, взглянула на него с ненавистью, схватила плащ, развернулась – и бац! – в этот момент с ней столкнулся Дима. Он держал в руке соусницу. И алый шашлычный соус опрокинул на белую-белую блузку.
– Что за день такой! – закричала она.
И заплакала.
– Давайте я вытру! – сказал Дима в испуге.
Но уже подскочил муж:
– Иди, раздолбай! Вытрет он! – взял жену за руку.
– Светка, пойдем в туалет, ну не рыдай. Фигня, застираем.
В туалете они задержались надолго. Дима задумался: «Что там можно столько делать?»
А когда Света с мужем вышли – не только блузка оставалась в соусе, но ещё и щёки мужа были в помаде. Оба смущённо улыбались. И быстро ушли, держась за руки. Ашот возник из своей подсобки, грозно произнес:
– Уволю я тебя, Дима.
– Увольняйте. Но вообще мне здесь нравится всё больше.
– Где?
– На Земле...
Через пару дней Ашот взял на работу новую девушку, из областного городка. Тихую и аккуратную Киру. Диму он согласился потерпеть не больше недели. Но Диме этого хватило, чтобы набедокурить ещё.
В пятницу вечером в кафе явился его сержант Букин, выпить пива и посмотреть футбол. Раздолбай Дима уронил пульт от телевизора да ещё и наступил на него – хрясть! Короче, футбол отменился. Букин был в ярости. К нему подошла Кира, ей не хотелось, чтобы Букин ругался.
– А вы за кого болеете? – робко спросила она.
Букин сразу присмирел:
– За «Динамо», конечно. Ты новенькая, что ли?
И да, через месяц Кира уже поселилась в однушке Букина. Они были счастливы.
А Диму выслали спать на кухню, на раскладушку. Букин не хотел его выгонять из квартиры, он его очень жалел. Букин вообще изменился за последнее время, сам себе удивлялся: чего вдруг?
…Как-то ночью, когда Дима лежал на своей раскладушке, курил и прислушивался к бульканью в холодильнике, сквозь окно проник яркий луч света. Дима услышал небесный глас:
– Ты молодец. Теперь ты настоящий ангел, ты заслужил, чтобы вернуться. Мы тебя ждём, вот твои крылья. Взлетай!
Дима потушил окурок, взял крылья, сунул их за плиту и ответил, глядя ввысь:
– Спасибо, конечно. Но я тут останусь. Мне тут прикольно. А крылья? Отдам соседке тёть Шуре, они ей нужнее.
© Беляков
|
| |
| |
| гость - Мира Лейдерман | Дата: Четверг, 02.03.2023, 07:54 | Сообщение # 582 |
|
Группа: Гости
| Доктор Ш-Ш-Ш
Со вчерашнего дня раненых привозили очень много – очень тяжёлых, и не очень. Если очень тяжёлые, то людям с незакалёнными сердцами их лучше не описывать и здесь не читать – дети без конечностей, оторванных взрывом, ещё не знающие, что они уже сироты, молодые парни, потерявшие
зрение с обожжёнными лицами, хрипящие и кашляющие кровью жертвы ранений грудной клетки, женщины - жертвы зверств и многое, многое другое со стонами, хрипами и слезами...
Маленькое село в Винницкой области было выбрано местом скорее «походного», чем полевого госпиталя в первые месяцы войны, для чего была мобилизована местная больница с единственным хирургом – доктором Гречкой по кличке «Грека», который и в мирное-то время ничем особым не отличался в плане профессионального таланта, кроме перевязок, примочек, вскрытия гнойничков и прочей мелочи, которая его таки в конце концов и споила.
Все войны бесчеловечны и уничтожают людскую душу и достоинство, превращая человека разумного в нечто, по сравнению с чем лютый зверь являет собой более благородное создание.
Исключением не стала и эта бойня, и зверские, немыслимые увечья, привозимые в Зелинопольске, повергли местную больничку в шок – кто это будет лечить? Кто? Вечно полу- или полностью пьяный Гречка?
Увидев привозимые в хирургическое отделение увечья физические и моральные от этой бессмысленной человеческой мясорубки, доктор Гречка моментально прозрел, и в таком состоянии вообще ни на что уже способен не был.
Так как же так случилось, что местная больничка буквально за сутки стала военным госпиталем? А вот как: старшей медсестре хирургии Наташке позавчера вечером позвонили буквально прямо домой из облцентра и замначальника здравоохранения приказал готовить имеющиеся палаты – абсолютно все – к приёму войны. Буквально. И подкрепил, что его, мол, в половом смысле не беспокоит, как это будет сделано и напомнил о законах военного времени.
Дело в том, что в сёлах, в большинстве случаев, нет никаких больничек, но в Зелинопольском-то была, и её как раз мобилизовали для нужд войны, пока в облцентре в окружном госпитале не подготовят современное оборудование для каких-то важных спецов.
Короче, сегодня, чтобы спасти Греку от инфаркта, должны к раненым прислать... бригаду из... Израиля (!?) с оборудованием.
Если бы упало небо на землю, то это произвело бы меньший эффект на местую медицину.
Остальные две помощницы местного эскулапа со средним медобразованием – Любка и Оксана были поражены не меньше, но добавляло к страданиям и то, что шишка из облцентра приказал строго-настрого держать рот на замке, потому как это военная тайна, а за нарушение по законам военного времени, в общем, с помощью доступной половой терминологии он всё очень понятно объяснил, легко запомнить.
Гречке Наташка, Любка и Оксана – «НЛО», как он их называл - всё доложили и он, чтобы вернуться побыстрее в нормальное состояние напряг 500грамм, и снова быстро овладел судьбой...
Тем не менее. раненые всё хрипели и стонали и помощь от обещанных пришельцев ох, как была нужна!
И вот, менее чем через сутки после прибытия пострадавших, в 4 утра (ох, это время!) в полной ещё темноте раздался поначалу ещё отдалённый, а потом всё более отчётливый гул приближающихся вертолётов. Затем – мощные прожектора, взбитые клубы пыли, и... ТРИ вертолёта приземлились на лужайку прямо перед центральным входом в медучереждение.
-2-
Стоял сентябрь и ночи были всё-таки довольно прохладные, но знобило всё НЛО не от этого. Из первого вертолёта вышли врач, три медсестры и, явно, переводчица, а из 2-го и 3-го выносили всяческую аппаратуру и какие-то продолговатые деревянные ящички с непонятными буквами – наверняка с лекарствами и инструментами.
Из первой вертушки, придерживая форменную фуражку рукой, чтобы не снесло, вышел последним человек в форме полковника ВСУ с военной выправкой, заметной даже в слегка только прорежающейся темноте.
Подойдя к обалдевшей Наташке, он представился: «Збройнi сили УкраÏни, керiвник спецвiддiлу полковник Лютий». И, не дослушав раздавшееся в ответ Наташкино заикание, продолжил: «Менi потрiбно поговорити з лiкарем Гречкою. Де його знайти?».
Наташка едва зашевелила пересохшими губами: «Пане полковнику, вiн зараз, вiн...»
-Зрозумiло, - ответил полковник, бегло обратив внимание на говорящий субъект - та в мене немає часу. Доповiсте йому, що це бригада з Iзраiлю, буде лiкувати наших. Допомагати усiм, що є, якщо запросять.
Запитання є?
Глаза медсестры даже в едва забрезжившем рассвете были чётко видны:
-Нема, нема, пане по...
-Часу в мене обмежено. Слухайте далi. До бригади цих лiкарiв ми додали перекладача, та зайвих запитань не задавати. Чи це зрозумiло?
-Так, так, також зрозумiло.
...Вертолёты взмыли в небо, постепенно удаляясь, и пыль, поднятая ими, стала потихоньку оседать.
Работа вновь прибывших, как и местных больничных кипела и к 8-ми утра (!) уже работали врач, анестезистка и 2 медсестры – всем где-то до 30-ти и только врачу, смуглому, черноволосому парню было, может, лет 35-37.
Его звали Шолом – так он сказал.
Переводчица с английского – учительница какой-то Винницкой школы, объяснила, что в переводе с иврита (еврейского языка), это означает то ли «здравствуй», то ли «привет», то ли «мир», то ли что-то ещё, она, собственно, толком не знает. И фамилия у него была Бен-Йехуда, но он попросил называть его просто «Доктор Шолом»...
Шолом оперировал буквально день и ночь, отправляя анестезистку на ночь отдохнуть и тогда уже выполняя работу, требующую только местной анестезии.
Бригаду разместили в пустующей местной школе, выделив каждому по наспех устроенной комнате – роскошь неописуемая.
Умывались кое-как в туалетных комнатах, приспособив какие-то резиновые шланги, прикрепив к ним лейки на одном конце – вот вам и импровизированный душ. В общем, израильтяне показали себя довольно
неприхотливой командой.
Делая перевязки и обходы, Шолом общался с помощью английского, но больше – прибегая к жестам и улыбкам. Особо он, казалось, был внимателен к покалеченным маленьким деткам, которые понимали его, казалось, без слов – общаясь с ними жестами и улыбками, он успокаивал их плач, говоря просто: «ш-ш-ш..», прикладывая палец к губам и они тут же затихали и в конце всё равно ему в ответ улыбались, чувствуя его участие.
Поэтому, когда им было больно или страшно, они просили прийти «лiкаря ш-ш-ш», и он всегда старался побыстрее к ним забежать, никогда не пропуская.
-3-
Сёстры НЛО помогали доктору вместе с медсёстрами из его команды и поначалу были критичны к нему, хотя Шолом вовсе не был похож на «классического» еврея в их представлении.
Зная, что израильтянин не знает русский, а тем более украинский язык, они в его присутствии любили, как им казалось, беззлобно обсуждать его между собой, говорить, что, мол, жид – он и есть жид, и что ребят он наверняка «залечит», потому, что, ведь, кто они ему? И почему, вот, своих нельзя было найти, а, вот, еврея откуда-то брать?
Шолом явно не понимал, о чём они говорят и, будучи очень доброжелательным, только улыбался своими глазами-маслинами из-под писаных бровей на смуглом лице, прикрытом хирургической маской, а они тут же улыбались ему в ответ, наслаждаясь моментом.
Тем не менее, израильтянин доказал, зачем его бригаду привезли туда.
За время его работы, если раненого привозили хотя бы чуть живого, он вытягивал его из лап смерти. Да он просто везунчик!
НЛО довольно быстро это усекли и, между прочим также, зачем сюда всё больше привозили офицеров и солдат из т.н. «спецподразделений». Понятно, что если так быстро подлечивают, то давай обратно в строй!
Не привыкший к настоящей полевой медицине доктор Гречка, тем временем, старался стать всё более пьяным, чтобы этого всего не видеть. Контраст с Шоломом был разительный и Грека посему, опрокидывая стакан, старался не показываться самому себе на глаза...
...И вот, прошёл сентябрь, прошёл октябрь, подходил к концу ноябрь. Те немногие местные, которым посчастливилось пролечиться у доктора Шолома, пытались «по традиции» всунуть ему через медсестёр – кто денег, кто еду и пр. и НЛО, к их чести, будучи ведомыми окрепшим уважением к этому еврею, честно приносили всё это ему.
Но каждый раз без всяких исключений эти подношения Шоломом отвергались уважительно, но твёрдо: «Children, children – give it to children», повторял он и они, зная что это обозначает, послушно относили всё деткам в палатах или местным детям в домах поблизости.
За это время, кстати, НЛО уже поняли базовый набор английских слов, а кое-кто и учебничек отрыл, так что понимание сдвинулось с мёртвой точки.
Несчастный доктор Гречка, тем временем, от этой «англификации» своих медсестёр всё больше углублял свою собственную анестезию, ненавидя настоящее вместе с немедленным прошлым и проклятым будущим.
В присутствии Шолома – в операционной или в палатах, – НЛО уже почти не употребляли его оскорбительные прозвища, а уважительно говорили, например: «дай цьому єврейскому лiкарю скальпель», или «дай цьому єврейскому лiкарю тампон», и так далее.
Шолом знал, что говорят о нём и только улыбался, НЛО улыбались в ответ, заговорщически перемигиваясь, и все, так сказать, были счастливы.
И вот – декабрь. Звонок из Винницы опять застал именно Наташку, как назло: «Це говорить полковник Лютий. Пораненi будуть евакуюватися до Вiнницi. Ми заберемо закордонну бригаду через недiлю у середу ввечерi десь пiсля сьомоi години. Зрозумiло?».
-Зрозумiло, - ответила медсестра, але...
-Що «Але?», - сухо прозвучало на другом конце провода.
-Чому ви не залишите Ïх у нас ще хоч трошечки?
-По-перше, ми пiдготували той шпиталь для поранених, для чого ми цих людей взагалi сюди привезли заразом з тим дуже кощтовним закордонним обладнанням яке, мiж iншим, вже працює у нашему шпиталi, як потрiбно.
Напам’ятаю вам, для чого ви нам потрiбнi були. Нагадуєте?
-4-
-Так, так, нагадую, - испуганно пролепетала медсестра.
-Також, я можу вам цього зовсiм не казать. Зрозумiло?
-Так... но ответ был прерван быстро – Також, в недiлю в них починається Ханука, а в нас для них буде працювати синагога, чого в вас там немає. Так чи нi?
-Так...
-Отже, я дуже добре знаю, як вони в вас там працювали.
Дуже добре менi свiдомо, мiж iншiм, також хто що там робив. Чуєте? Тому й кажу: людям треба трошки вiдпочити, бо працi тут буде досхочу. Через недiлю команду заберемо. У мене для вас усе. На усе добре.
Разговор был окончен. Сердце Наташкино защемило: как так? Какое-такое «добре»? Нашего еврея заберут, где же тут «добре»?
Но Шолом, оказывается, всё уже знал. Самыми простыми английскими словами и с помощью, опять же, жестов, он объяснил наперёд, что знает местные обычаи, и некаких таких «проводов» он и его команда категорически не хотят, и они вполне серьёзны насчёт этого. Однако, один маленький цветок он им всё же подарит.
Откуда здесь цветок в декабре?
Шолом загадочно улыбнулся и больше ничего не сказал.
И вот – эта злополучная Среда.
Шолом работал, как заводной с 5-ти утра, стараясь как можно больше сделать перед отъездом, хотя раненых стало гораздо меньше – их, как и обещали, перевозили в окружной.
Грека появился в вестибюле и, расправляя появившуюся грудь, ходил взад-вперёд, издавая командные звуки и предвкушая реставрацию режима.
НЛО были чернее ночи: «а ми ж таки звикли до цього єврея, як же ж ми зараз без нього? Зараз що? Знов цей Грека?»
В 7 вечера, в темноту, снова должны были прилететь вертолёты за командой медиков и последними ранеными. Вернее, должен был прилететь всего один – в телефонном разговоре накануне Шолом выяснил, что в окружном госпитале новая мощная аппаратура уже поставлена, и та, с которой он приехал, им там уже была не нужна. Израильский консул выразил своё согласие-безразличие желанию хирурга оставить аппаратуру там, и все участники согласились, что так даже дешевле. Поэтому-то вертушка и будет всего одна.
Место прощания было в больничной столовой.
Шолом появился вместе со своими сотрудницами в цивильной одежде, и почти впервые за всё это время без халатов. Стояли холода и на медиках были серенькие скромненькие курточки, вязаные шапочки и никаких перчаток.
Пожав всем руки и обняв, Шолом откуда-то из своего походного деревянного ящичка достал тоненькую вазочку из мутновато-молочного стекла с невесть откуда взявшейся бело-голубой орхидейкой и протянул это заплаканным НЛО.
-No cold, no cold at all, understand?
-Yes, yes! – закивали медсёстры - Конечно, конечно - они всё поняли и будут держать её в тепле. Конечно!
Обняв всех ещё раз по очереди и пожав руки, Шолом протянул Наташке запечатанный конверт и медленно, чтобы все поняли сказал: «Open, when I go» и достаточно ясно сымитировал руками крутящиеся лопасти вертолёта и сказал: «та-та-та-та», жемчужно улыбнувшись вдобавок.
Женщины закивали и опять бросились обнимать доктора, как раз когда эти «та-та-та» сначала слабо, откуда-то издалека, а потом всё громче и громче приближаясь, приземлились в этот мир.
-5-
Быстро, без дальнейших проволочек команда израильтян ушла и уже из вертолёта, освещаемого фонариками провожавших, помахала на прощание.
НЛО медленно вернулись в столовую и тут Наташка вспомнила о конверте. Открыв его мокрыми пальцами, она выложила письмо на стол. Все трое над ним склонились, читая ровный, твёрдый почерк Шолома:
Я бачив дивний сон – немов передi мною
Безмiрна, та пуста, та дика площина,
I я, прикований ланцом залiзним стою
Пiд величезною гранiтною скалою,
А далi – тисячi таких, самих, як я
В руцi у кожного – важкий залiзний молот
I голос гучний нам, як грiм з гори луна:
Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод не спинять вас!
Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить...
И подпись: Шолом Бен-Йехуда и ниже, в скобочках –
(Александр Житомирский)
Иван Франко... как это!!?
И Шолом, это Шолом всё написал по памяти! А он - и не Шолом совсем...
Ужас!!!
Полнейший ужас.
-Вiн усе чув. Усе. I зрозумiв. Напевне. Як же ж ми!? Ганьба – i усе тут!
Но было уже поздно и поезд, в виде вертолёта, если хотите, уже ушёл, вернее, изволил улететь, оставив позор на земле.
Гробовая тишина...
Слёзы высохли, постепенно сменяясь на гнев: как он мог, этот еврей, нас так опозорить! Как он мог! А мы так к нему искренне и хорошо относились!
Заплетающиеся шаги возвращающегося настоящего хозяина приближались по коридору и постепенно привели Греку к трону в столовой. Он вынул початую бутылку из-под полы халата и поставил перед НЛО: «влада повернулася!»
Подойдя к окну в столовой, и, не обращая внимания на стоящую там тоненькую стеклянную вазочку, он распахнул над ней окно в холодный декабрьский воздух: «треба провiтрити повiтря тут вiд цих...»
Орхидейка сразу как-то поникла и скукожилась, а на стекле вазочки от холода вдруг проступили слова из книги пророка Экклезиаста:
Что делалось, то и делается,
Что творилось, то и будет твориться,
И нет ничего нового под луной...
2022
|
| |
| |
| несогласный | Дата: Пятница, 03.03.2023, 05:30 | Сообщение # 583 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| замечательный рассказ о том, ... ... ничего не изменилось и слова Экклезиаста верны всегда, увы!
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Суббота, 25.03.2023, 09:43 | Сообщение # 584 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
| Чтобы вы знали, что такое еврейские мужья.
Если не знаете, то я скажу: еврейский муж – это самолёт, потому что на земле от него нет никакой пользы...
Впрочем, не буду отвлекаться, расскажу всё по порядку.
Мой первый муж, Изя, был порядочный человек. Честный, скромный, не швицер, не фасонщик. У него был только один недостаток: он был шибко партийный. Когда его в первый раз увидела моя мама, она сказала всего три слова: а ничтожество, а гурнешт, а коммунист. А от себя добавлю: не просто коммунист, а мишигенер коммунист.
В первый же день свадьбы он повесил у нас в спальне портреты Маркса и Энгельса. Я говорю:
– Изенька, мне неудобно переодеваться перед незнакомыми людьми.
– Что значит «незнакомыми»? Это вожди мирового пролетариата! И я хочу, чтобы они висели здесь.
Я сказала:
– Ладно, ладно, успокойся! Хорошо ещё, что ты их не положил с нами в кровать.
А про себя подумала: «Что я буду из-за них ссориться? Хочет – пусть висят, чтобы они уже все висели».
По ночам мой Изя не спал и не давал заснуть мне. Нет, не то, что вы думаете, его волновало совсем другое: чтобы коммунизм победил во всём мире. Хотя, что этот мир сделал ему плохого – я не знаю!
Но мало того, что он был ненормальный, он ещё взялся за меня:
– Завтра мы идём на первомайскую демонстрацию!
– А что я пойду? Я же беспартийная.
– Не спорь! Все честные люди должны быть там.
Когда мы вышли на Красную площадь, и он увидел вождей – он так возбудился, больше, чем в нашу первую брачную ночь.
– Почему ты молчишь? – говорит он мне. – Приветствуй наше правительство!
Так я уже шла за ним и кричала: «Пламенный привет! Пламенный привет!». Не могла же я им прямо сказать: «Чтоб вы сгорели!».
Кончилось всё тем, что он пришел с партсобрания и говорит:
– Собирайся. Мы едем поднимать целину.
– Что мне поднимать? Я, слава Богу, ничего не роняла.
– Не спорь. Меня посылает партия.
Я ему говорю:
– Изенька, партия тебя уже столько раз посылала. Может, и ты её один раз пошлёшь?
Когда он это услышал, он весь затрясся, обозвал меня контрой и ушёл навсегда. Надо сказать, к его чести, что он ничего не взял, ушёл буквально голый, прикрываясь своим партийным билетом.
Но я для себя решила: больше к партийному не подойду на пушечный выстрел. И мой второй муж, Лазарь, таки коммунистом не был. Он был деловой человек, гешефтмахер. Каждый вечер он ложился со мной рядом и, нет, не то, что вы думаете, начинал считать:
– Зибн унд драйцих, ахт унд драйцих, нойн унд драйцих, ферцих!..
Причём, говорить по-еврейски он не умел, но деньги считал только на еврейском. Он, очевидно, полагал, что такое святое дело нельзя доверять русскому языку. Вот так и шло - я лежала рядом, а он считал:
– Ахт унд драйцих, нойн унд драйцих, ферцих!..
Думаете, он считал доходы? Какой там! Он считал убытки. Такой он был ловкий, мой Лазарь. Каждый день он мне говорил:
– Дела идут плохо, надо ужаться в расходах! Надо ужаться в расходах, дела идут плохо!
Я уже не выдержала, спрашиваю:
– Лазарь, я не поняла: так что мы теперь должны – больше занимать или меньше отдавать?
Нет, на себя он был широкий, но я у него не могла вырвать копейку на расход. В магазин я всегда ходила с мокрыми деньгами: так он плакал, когда их давал.
Исчез он, как и появился, прихватив всё, что у нас было на книжке.
После этого я решила – хватит! Мне нужен простой человек, лишь бы он меня любил. И мой третий муж – Нёма, меня-таки любил. Очень любил. Больше меня он любил только водку. А вы знаете, что такое аид-а-шикер? Это хуже паровоза. Потому что паровоз ещё можно остановить, а шикера – никогда!
Если бы я знала заранее, что он такой пьяница, я бы лучше вышла за русского. Тот хотя бы не закусывает. А мой Нёма любил и то и это.
Трезвый, по-моему, он не бывал никогда. Бывало, заявляется домой в час ночи. Я спрашиваю:
– Где ты был?
– Я?.. Играл в шахматы.
– Да? А почему от тебя пахнет водкой?
– А чем от меня должно пахнуть? Шахматами?
Но это ещё цветочки. Один раз он пришёл такой пьяный, что не смог попасть ключом в замок. Еле вошёл в квартиру и закричал:
– Роза! Роза! Дай мне зеркало! Я хочу посмотреть, кто пришёл.
Уж я его стыдила, и пугала. Говорила:
– Нёма, как ты не боишься? По радио говорили, что у нас от водки умирает каждый четвёртый.
Он говорит:
– Ха! Интересное дело! Пьём на троих, а умирает четвертый.
На меня как на женщину он вообще не обращал внимания.
– Нёма, – говорю, – между прочим, сегодня в трамвае трое мужчин поднялись и уступили мне место.
– Ну и что? Ты поместилась?
Наконец я не выдержала и сказала:
– Всё, хватит! Выбирай: или я, или водка!
Он подумал и говорит:
– А сколько водки?
И мы разошлись, как в море корабли. Причём море было из той водки, что он выпил за свою жизнь.
После этого я для себя решила: «Все, хватит! Лучше жить одной, чем так мучаться». Но на свою беду я встретила старую мамину подругу, профессиональную сваху. Она сказала:
– Деточка! Тебе нужен пожилой еврейский муж без недостатков.
Я как дура согласилась и на следующий день она привела Натана. Что правда, то правда: он был действительно пожилой. Правый глаз у него немного косил, на левую ногу он слегка прихрамывал, зато на спине у него был небольшой горб. Я ей тихо говорю:
– Слушайте, а получше у вас не нашлось?
Она отвечает:
– Говори громче, он всё равно ничего не слышит.
– Я говорю: почему он такой старый?
– Старый? Ну так что? Муж – это же не курица, вы его не будете варить. И потом, не такой уж он старый. Как говорится, мужчина в самом соку.
Не знаю, может, он и был в соку, но сок был явно желудочный.
Уж не помню, как она меня уговорила, но я сказала «да». Что касается недостатков, то она меня не обманула: он не пил, не курил и почти не дышал. Вёл он себя, как маленький ребёнок, просто шагу без меня не мог сделать. Помню, принесла я из прачечной его рубашки. Он зашёл с ними в спальню, кричит:
– Роза! Роза! Нам подменили в прачечной рубашки! Посмотри, какой маленький воротничок, я задыхаюсь!
Я посмотрела и спрашиваю:
– Что ты орёшь?! Причём здесь воротничок? Ты же продел голову в петлю от пуговицы...
Словом, помощи от него не было ни на грош. Бывало, ждём гостей, я кручусь по дому, готовлю, убираю, накрываю на стол. Он – сидит в трусах, смотрит телевизор.
– Натан, – говорю, – что ты сидишь в трусах? Оденься! Через пять минут придут гости.
– Ну и пусть придут! Пусть увидят, какой я худой, как ты меня плохо кормишь.
Кончилось тем, что весной у него начался авитаминоз, и врач ему прописал делать уколы. После пятого укола он сбежал вместе с медицинской сестрой. И я не удивляюсь: в его возрасте сестра важнее, чем жена.
А вы думаете, еврейский муж – это подарок. Правильно говорила моя сестра Фира:
– Еврейский муж – это загадка, потому что никогда не знаешь, что с ним делать. Положишь его на себя – он засыпает, положишь под себя – задыхается, положишь набок – смотрит телевизор, поставишь на ноги – его и след простыл: побежал к своей мамочке жаловаться на жену!
Аркадий Хайт
|
| |
| |
| Сонечка | Дата: Вторник, 11.04.2023, 16:04 | Сообщение # 585 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Статус: Offline
| Пренебрегая правилами хорошего тона, я предупреждаю гостей быть очень осторожными с этими высокими узкими бокалами из тонкого хрусталя, хотя о более ценных вещах никто не слышал от меня предостережений...
Мы с Яшей родились в один день. Вместе пошли в детский сад, а потом - в школу.
Вместе начали курить. Нам было тогда восемь.
Операция тщательно планировалась. После уроков мы зашли в уборную для мальчиков. Я извлек из пенала папиросу "Герцеговина Флор", купленную на совместный капитал. Яша
достал принесённые из дома спички. Конец папиросы раскалился, как железо в кузнечном горне, и расплавленный металл потёк в грудь. Я закашлялся. Предметы внезапно потеряли чёткие очертания. Тошнота подступила к горлу. Подавляя подлые слёзы, я передал папиросу Яше. Он затянулся, и мы уже кашляли дуэтом. Я взял папиросу и пыхтел не затягиваясь. Яша отказался.
Больше он никогда не курил.
Утром, когда нам исполнилось шестнадцать лет, мы сдали экзамен по алгебре, оторвались от одноклассников, купили бутылку "Алиготэ" и по традиции взобрались на ореховое дерево в нашем саду. Мы удобно расположились в развилках мощных ветвей, отхлебывали вино и обсуждали мировые проблемы.
Бутылка опустела еще до того, как мы коснулись оккупации Югославии немцами. Я закурил "гвоздик", горький, вонючий, дерущий горло. На лучшие папиросы у меня не было денег. Яша отмахивался от дыма и рассказывал о недавнем свидании с девочкой из десятого класса.
По календарю только завтра наступит лето, но тёплое летнее солнце уже сегодня пробивалось сквозь тугие пахучие листья.
Нам было хорошо на ветвях старого орехового дерева, центра мироздания.
Ещё четыре экзамена - и начнутся каникулы. А там -десятый класс. А потом - вся жизнь. И границы её неразличимы, когда тебе шестнадцать лет и всё ещё впереди.
Через две недели начались каникулы. Я устроился на работу в пионерский лагерь. Яша решил в июле поехать к родственникам, жившим на берегу моря.
Но ещё через неделю началась война. И рухнули планы.
Ночью немцы бомбили город. Мне хотелось зубами вцепиться в кадык немецкого лётчика.
Уже в первый день войны я не сомневался в том, что сейчас же, немедленно, добровольно пойду на фронт. У меня не было сомнения, что такое же чувство испытывают все мои товарищи и, конечно, мой самый близкий друг Яша.
В первый день войны мне даже на минуту не удалось освободиться от работы в лагере. На следующий день, в понедельник, я заскочил к Яше с тщательно обдуманным планом - сформировать наш собственный взвод, в котором будут ребята из двух девятых классов.
Он не успел отреагировать на моё предложение. Яшина мама обрушила на меня лавину нелепых обвинений. Больно и обидно было впервые услышать грубость из уст этой деликатной женщины. Она кричала, что я рожден для войны, для драк и для всяких безобразий, что, если я решил добровольно пойти на фронт, это моё собачье дело, а Яша - шестнадцатилетний мальчик, в сущности ещё ребёнок Пусть он сперва окончит школу. А потом, то есть когда ему исполнится восемнадцать лет, он пойдёт в армию по призыву, как все нормальные люди.
Я возражал Яшиной маме. Я не спорил по поводу шестнадцатилетнего мальчика, в сущности ещё ребёнка, и ничего не сказал о свидании с девочкой из десятого класса. У меня, к сожалению, таких свиданий ещё не было. Но, кажется, я тоже не был очень деликатным. Я кричал о защите родины, о долге комсомольца, о героях гражданской войны. Я выстреливал лозунги, которыми был начинён, как вареник картошкой.
Не знаю, как Яша ушёл из дома. Ни один из тридцати одного бойца не обсуждал эту тему.
...На одиннадцатый день войны наш взвод вступил в бой - первый бой против отлично подготовленных и вооружённых немецких десантников.
Мы потеряли двух мальчиков. Одному из них шестнадцать лет исполнилось бы только через пять месяцев, в декабре. Конечно, мы переживали их гибель. Больше того - она потрясла нас. Но - стыдно признаться - упоение победой помогло нам справиться с болью потери.
Четыре дня мы занимали оборону, не видя противника. У нас была уйма времени, чтобы обсудить детали прошедшего боя и получить удовольствие от доставшихся нам трофеев. У ребят появились первые в жизни часы. Яша в упор застрелил обер-лейтенанта и подарил мне его "парабеллум". Как и все в нашем взводе, я был вооружён карабином. Только сейчас, став обладателем пистолета, я мог по-настоящему почувствовать себя командиром взвода.
А потом начались непрерывные бои.
Мы теряли ребят и уже не радовались победам. Даже отразив все атаки, наш взвод вынужден был отступать или, что ещё хуже, выбираться из окружения.
У нас уже не было недостатка в трофейных автоматах. В подарок от меня Яша получил "вальтер", хотя по штату рядовому не полагался пистолет. Но о каком "по штату" можно было говорить в те дни!
А "вальтер" я взял у пленного шарфюрера. Он целился в Яшу, и в этот момент с бруствера траншеи я ударил его прикладом карабина по каске.
Нормальная голова от такого удара раскололась бы, как арбуз. Но этот здоровенный веснущатый немец часа через два очухался и нагло смотрел на нас, и вид у него был такой, словно он взял нас в плен, а не мы его.
Допрашивал его Мончик, лучший во взводе знаток немецкого языка. До перехода в наш класс он учился в еврейской школе. Немец молчал, а потом словно выплюнул: "Ферфлюхтен юден!"
Я выстрелил в эту подлую веснущатую морду. Всё равно некуда было его девать.
Мы выходили из окружения. Наших ребят оставалось всё меньше. Взвод пополнялся
красноармейцами-призывниками и даже служившими срочную службу до войны.
Командовать становилось всё труднее. Кухня и старшина роты редко бывали нашими гостями. В бою голод не ощущался. Но после - проблема пищи становилась не менее острой, чем проблема боеприпасов. Я уже не говорю про курево.
Мы выкапывали молодую картошку. Появились огурцы. Созрела вишня. Случайно подворачивалась какая-нибудь курица...
Но непревзойдённым мастером организовывать ужин оказался Яша. Стоило девушкам или молодкам взглянуть на его красивое лицо, пусть даже покрытое пылью и копотью, стоило только услышать его мягкую украинскую речь, и их сердца распахивались.
Его обаяние действовало не только на женщин. Даже новички во взводе, даже те, кто явно не жаловал евреев, а таких попадалось немало, даже они быстро полюбили Яшу.
А как было его не любить? В бою он всегда появлялся там, где больше всего был нужен. Оказать услугу, помочь было не просто свойством его характера, а условием существования.
В ту ночь он возник внезапно, как добрый джин из бутылки, именно в ту минуту, когда мне так нужна была чья-нибудь помощь.
Ещё с вечера мы заняли оборону на косогоре. Земля была нетрудной. Часа за два - два с половиной у нас уже была траншея в полный профиль. Впереди до чёрного леса расстилалось белое поле цветущей гречихи. За нами метров на сто пятьдесят в глубину, до самой железной дороги, тянулся луг с редким кустарником, справа и слева у насыпи ограниченный небольшими вишнёвыми садиками. В километре на юго-востоке в густых садах пряталась железнодорожная станция. Засветло отсюда, с косогора, была видна водокачка.
Сейчас она угадывалась при полной луне, висевшей над железной дорогой, как
осветительная ракета.
Казалось, гречишное поле покрыто глубоким свежевыпавшим снегом. Тишина такая, словно не было войны.
Железнодорожный состав мы услышали задолго до того, как он появился из-за вишнёвого садика. В это же время над лесом на светлой полоске неба мы увидели шесть чёрных "Юнкерсов". Они летели к станции. Один из них отвернул влево и спикировал на состав. Две бомбы взорвались почти у самого паровоза.
Состав остановился, заскрежетав буферами. Мы слышали, как люди убегают к лещиннику на той стороне железной дороги. "Юнкерс" больше не бомбил состав. Он улетел на юго-восток, откуда доносились беспрерывные разрывы бомб.
И вдруг на фоне отдалённой бомбежки, на фоне затухающих голосов за железной дорогой, на фоне щебетания проснувшихся птиц пространство пронзил душераздирающий женский крик, зовущий на помощь. Не было сомнения в том, что кричат в вагоне, стоявшем точно за нашей спиной.
Через минуту я уже взбирался в раскрытую дверь "теплушки"...
Голубой прямоугольник лунного света из открытой двери освещал пустое пространство между нарами. Слева в темноте стонала невидимая женщина. С опаской я включил свой трофейный фонарик.
Из-за огромного живота тревожно и с надеждой смотрели на меня страдающие глаза молодой женщины. В коротких промежутках между стоном и криком я услышал, что она жена кадрового командира, убежавшая из Тернополя.
Я не стал выяснять, почему эшелон из Тернополя попал так далеко на юг, вместо того, чтобы следовать прямо на восток.
Женщина рожала в покинутом вагоне, а я стоял перед нею у нар, не зная, что делать, не зная, как ей помочь. Даже во время первой немецкой атаки я не чувствовал себя таким беспомощным. Ко всему ещё меня сковывал какой-то стыд, какая-то недозволенность.
Не знаю, как это произошло. Я действовал в полусознании. Женщина вдруг утихла, а у меня в руках оказалось мокрое орущее существо. Я чуть не заплакал от беспомощности и покинутости.
Именно в этот момент в проёме появилась Яшина голова. Он быстро вскочил в вагон. Через несколько секунд Яша вручил мне большой металлический чайник, забрал у меня младенца, укутал его в какие-то тряпки и отдал матери успокоившийся кулёк.
- Давай, дуй за водой, - приказал он и видя, что я ещё не очень соображаю, добавил:
- Колодец у вишнёвого садика в голове поезда.
Я быстро возвратился с водой. Яша развернул младенца, обмыл его и укутал в сухую тряпку.
Я не заметил, когда прекратилась бомбёжка.
- Как тебя зовут? - спросила женщина уставшим голосом. Странно, вопрос относился не ко мне.
- Яша.
- Хорошее имя. Я назову сына Яковом.
Загудел паровоз. Помогая друг другу, в вагон стали взбираться женщины. Мы попрощались с роженицей и под фривольные шутки женщин соскочили из вагона как раз в тот момент, когда, залязгав буферами, поезд рывком дёрнулся и, набирая скорость, пошёл на юг.
Именно в это мгновенье из леса донеслись два пушечных выстрела. Мне показалось, что это "сорокопятки". Но откуда взяться в лесу нашим пушкам?
Уже из траншеи мы увидели два танка "Т-3" и около роты немцев, прущих на нас из лесу.
Было светло, как днём. Я приказал пропустить танки и отсечь пехоту.
Не знаю, сколько немцев мы уложили. Оставшиеся в живых залегли. Они были отличными мишенями на фоне белеющей под луной гречихи. Когда танки перевалили через траншею, Яша первым выскочил и бросил на корму бутылку с зажигательной смесью. Второй танк поджёг кадровый красноармеец, новичок в нашем взводе.
Всё шло наилучшим образом. Только нескольким немцам удалось удрать к лесу.
- Удачный бой, - сказал Яша. - Только двое раненых. И вообще хорошая ночь. Он хотел продолжить фразу, но внезапно остановился.
Я даже не понял, что это имеет какое-то отношение к пистолетному выстрелу с бруствера траншеи.
Я успел подхватить Яшу, оседавшего на дно траншеи. Я обнял его правой рукой. Левой - заткнул фонтан крови, бивший из шеи. Казалось, что Яша что-то хочет сказать, что он смотрит на меня осуждающим взглядом.
Раненого немца, выстрелившего с бруствера, мы закололи штыками.
Яшу похоронили возле вишнёвого садика, недалеко от колодца. У меня не было карты, и я начертил схему, привязав её к входному семафору на железной дороге. Всю войну в планшете я хранил схему с точным указанием места могилы моего первого друга. Даже сегодня по памяти я могу её восстановить.
...Прошло четыре года. Я вернулся домой. В первый же день я хотел пойти к Яшиной маме. Но когда я взял костыли, дикая боль пронзила колено. Ни обезболивающие таблетки, ни стакан водки до самого утра не успокоили этой боли. Я пошёл к ней только на следующий день.
Не успел я отворить калитку, как Яшина мама возникла передо мной на тропинке. Я хотел обнять её. Я хотел сказать ей, как я люблю её, как вместе с ней оплакиваю гибель моего первого друга. Четыре года я готовился к этой встрече. Но я ничего не успел сказать.
Маленькими кулаками она била по моей груди, как по запертой двери. Она царапала моё лицо. Она кричала, что такие мерзавцы, как я, уводят на смерть достойных мальчиков, а сами возвращаются с войны, потому что негодяев, как известно, даже смерть не берёт.
С трудом я неподвижно стоял на костылях, глотая невидимые слёзы.
Из дома выскочила Мира, Яшина сестра, оттащила маму, платочком утёрла кровь с моего лица и только после этого обняла и поцеловала.
Даже Мире я не решался рассказать, как погиб Яша.
Ещё дважды я приходил к ним. Но моё появление доводило до исступления добрую женщину...
Вскоре я навсегда покинул родные места.
...Новые заботы наслаивались на старые рубцы. Новые беды притупляли боль предыдущих. Но в день Победы все мои погибшие друзья выстраивались в длинную шеренгу, а я смотрел на неё с левого фланга печального построения, чудом отделённый от них непонятной чертой. Яша всегда стоял на правом фланге. А спустя три недели, в день нашего рождения, он являлся мне один.
Кто знает, не его ли невидимое присутствие делает этот день для меня неизменно печальным?
Вот и тогда... В операционной я забыл, какой это день. Но в ординаторской, заполненной букетами сирени, тюльпанов и нарциссов, товарищи по работе напомнили, что мне сегодня исполнилось сорок лет, и выпили по этому поводу.
Я возвратился домой, нагруженный множеством подарков, самым ценным из которых оказалась большая, любовно подобранная коллекция граммофонных пластинок.
Я как раз просматривал эти пластинки, не переставая удивляться, где и каким образом можно достать такие записи любимых мной симфонических оркестров, когда у входной двери раздался звонок.
Вечером придут друзья. А сейчас мы никого не ждали. Возможно, ещё одна поздравительная телеграмма?
Жена открыла входную дверь.
- Это к тебе, - позвала она из коридора.
Я вышел из комнаты и обомлел. В проёме открытой двери со свёртками в руках стояла Яшина мама.
- Здравствуй, сыночек. Я пришла поздравить тебя с днём рождения.
Я молча обнял её и проводил в комнату. Когда я представил их друг другу, жена поняла, что произошло.
Мы развернули свёртки. Торт. Мускатное шампанское. Шесть высоких узких бокалов из тонкого хрусталя.
Мы пили шампанское из этих бокалов. Яшина мама разговаривала с моей женой. Видно было, что они испытывают взаимную симпатию. Я только пил. Я не был в состоянии говорить.
Но и потом, когда приходил к ней, и тогда, когда сидел у её постели, когда держал в своих руках её высохшую маленькую руку и молча смотрел, как угасает ещё одна жизнь, я ни о чём не спрашивал и ни разу не получил ответа на незаданный вопрос.
- Сыночек ... - выдохнула она из себя с остатком жизни.
Кому она подарила последнее слово?
Я очень много терял на своём веку. Не фетишизирую вещи. Постепенно я понял, что значит быть евреем и как важно не сотворить себе кумира. Но, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я прошу очень бережно обращаться с этими высокими тонкими бокалами.
Иона Лазаревич ДЕГЕН, 1979 г.
|
| |
| |
|










