| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
кому что нравится или житейские истории...
| |
| Бродяжка | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:46 | Сообщение # 511 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 712
Статус: Offline
| Куда податься?
Аркадий плёлся по Большой Морской в Петербурге в ближайшую "Пятёрку" – купить 200 грамм колбасы и пакет молока. Погода была противной, от косого дождя не помогал и поднятый воротник потрёпанного пальто. Зонт сломался ещё в начале сентября, при первой же буре. Стоит ли покупать новый – долго все эти китайские поделки на один день, при питерской погоде не продержатся...
Аркадий вздохнул.
Батареи в его старой квартире едва грели, и даже дома он не сможет согреться. Правда, в бутылке "Столичной" есть ещё почти половина, это должно помочь.
Мелькнула мысль: "Согреваясь таким плебейским образом, я совсем сопьюсь". Он давно уже пил один, не было у него друзей...
И подумал уже в который раз: "Нет, я сглупил. Нужно было 30 лет назад, как мой кузен Фима, рвать в Германию. Тогда они всех евреев принимали.
Сейчас Фима живёт в цивилизованной Европе, среди воспитанных людей, ему сразу дали квартиру с налаженным отоплением, пособие – тут учёные такую зарплату получают.
Не ломает, небось, голову: покупать к колбасе ещё и упаковку яиц, или обойтись на этой неделе…
В этот самый час кузен Фима в Гамбурге в своей тёплой социальной квартире, в которой холодильник набит продуктами, полученными в обмен на выданные талоны, сидел за бутылкой "Хортицы" и пил.
Тоже один. С другими иммигрантами из России он давно уже рассорился на почве несовпадения позиций по вопросу Крыма. Местные на него смотрели либо злобно, считая паразитом, либо просто не замечали.
На этом немецком он говорил с ужасным акцентом, и сам стеснялся заводить с кем-либо разговор.
- Да, каким же я был дураком, - подумал уже не в первый раз Фима. – Говорил мне мой коллега Алик: "Полетели в Америку. Страна неограниченных возможностей".
Алик там за 30 лет раскрутился. Свой большой дом. Магазин. И Фима бы смог. Не глупее Алика. Говорят, там на акцент никто не обращает внимания...
Бывший коллега Фимы по НИИ Алик в Бруклине уже третий день боялся идти в свой магазин электротоваров, он даже не знает, подвергся ли его магазин погрому во время недавних беспорядков. Страховка покроет – но только часть потерь.
Ходят слухи, что погромщики сегодня вернутся на их улицу, и на этот раз их целью станут именно еврейские бизнесы. Полиция попряталась…
Алик плеснул себе виски, потянулся было за льдом, но передумал – надо бы поскорее опьянеть.
Что толку, что у него надёжный доход, приличный счёт в банке, этот трёхэтажный дом, из которого боишься выйти? Дети разъехались по разным городам, внуков видит только по большим праздникам.
Можно бы уехать в Израиль – но надолго ли хватит накоплений? А возраст уже под семьдесят, раскручиваться снова – ни сил, ни здоровья…
Нет, правильно поступил МНС Семён, который 30 лет назад из Питера уехал сразу в эту… как её… Беэр-Шеву.
Сейчас живёт под охраной своей полиции и армии, никакая антисемитская сволочь не посмеет его тронуть. Да, Сёме там не удалось устроиться по своей специальности, да, он писал, что в маленьком Израиле бизнес заводить нереально. Но он всё равно счастлив.
Работал сначала на заводе подсобным рабочим, потом удачно устроился там же кладовщиком. Сейчас вышел на пенсию, получает пособие и подрабатывает охранником в супермаркете.
Он среди своих, счастлив, уже освоил иврит, и даже иногда публикует свои статьи в одной русской газете.
Ясно, что Сёма счастлив в Израиле...
В Беэр-Шеве, в квартале "Далет" Сёма тоже сидел за бутылкой, но пить не хотелось. Не шла она.
Середина ноября – а жара стоит неимоверная. Хамсин. И скука.
Вчера был скандал в супере. Ахмед из бедуинской деревни, который работает грузчиком, давно его подсиживает, вчера опять пожаловался директору, что Семён проверяет не всех выходящих покупателей. Сёма врезал бы между глаз этому щуплому Ахмеду – но ведь набежит вся его хамула. А полиция именно Семена во всём и обвинит.
Как умно поступил Аркадий, который не стал никуда дёргаться, живёт сейчас себе в прекрасном культурном Питере, там просто пройтись по величавым улицам – уже отрада для души. Театры, концерты, музеи… Утром по Первому российскому каналу передали, что Питере дождь…
Дождь!!! Как он соскучился по нему. И по прохладе.
Рука потянулась к "Финляндии", но опять упала. Нет, он не может пить в такую жару, тело должно продрогнуть и требовать "сугрева"...
В Петербурге Аркадий вышел из "Пятерки", пряча авоську с колбасой и молоком от дождя под полу пальто. Зазевался, не заметив лужу у входа и ступил в неё.
Всё, опять промочил ноги. Эти ботинки промокают уже месяц, но если менять ботинки, как только они начинают пропускать воду – то пенсии не хватит больше ни на что.
А тут ещё плату в ЖКХ опять подняли…
Надо скорее домой, пока не подхватил воспаление лёгких…
Тогда он проваляется в постели с температурой всю зиму…
Юрий Моор-Мурадов
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Пятница, 21.08.2020, 06:49 | Сообщение # 512 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1455
Статус: Offline
| Однажды в квартире у молодой женщины расцвел кактус. До этого он 4 года торчал на подоконнике, похожий на хмурого и небритого дворника, и вдруг такой сюрприз. Странно, что меня считают злобной бездушной стервой, — подумала женщина. Это всё неправда, у бездушных и злых кактусы не цветут...
В приятных думах о цветущем кактусе она случайно наступила на ногу мрачному мужчине в метро. На его замечание она не заорала как обычно с оскорбленным видом: «Ах, если уж вы такой барин, то ездите на такси!», — а улыбнулась:
— Не сердитесь на меня, пожалуйста, мне не за что держаться, если хотите — наступите мне тоже на ногу и будем квиты.
Мрачный мужчина проглотил то, что собирался озвучить по её поводу, вышел на своей станции и, покупая газету, вместо того, чтобы нахамить продавщице, запутавшейся с подсчётом сдачи, обозвав её тупой коровой, сказал:
— Ничего страшного, пересчитайте ещё раз, я тоже с утра пораньше не силён в математике.
Продавщица, не ожидавшая такого ответа, расчувствовалась и отдала бесплатно два старых журнала и целую кипу старых газет пенсионеру — постоянному покупателю, который очень любил читать прессу, но покупал каждый день только одну газету ...подешевле. Конечно, нераспроданный товар полагалось списывать, но любые правила можно обойти.
Довольный старик пошёл домой с охапкой газет и журналов. Встретив соседку с верхнего этажа, он не устроил ей ежедневный скандал на тему: «ваш ребенок как слон топает по квартире и мешает отдыхать, воспитывать надо лучше», а посмотрел и удивился:
— Как дочка-то ваша выросла. Никак не пойму, на кого похожа больше на вас или на отца, но точно красавицей будет, у меня глаз намётанный.
Соседка отвела ребенка в сад, пришла на работу в регистратуру и не стала кричать на бестолковую бабку, записавшуюся на приём к врачу на вчерашний день, но пришедшую сегодня, а произнесла:
— Да ладно, не расстраивайтесь, я тоже иногда забываю свои дела. Вы посидите минутку, а я уточню у врача, вдруг он сможет вас принять...
Бабка, попав на приём, не стала требовать выписать ей очень действенное, но недорогое лекарство, которое может мгновенно помочь вылечить болезнь, угрожая в случае отказа написать жалобы все инстанции вплоть до Страсбургского суда по правам человека, а вздохнула и сказала:
— «Я же не совсем ещё из ума выжила, понимаю, что старость не лечится, вы уж, доктор, простите, что таскаюсь к вам постоянно как на работу».
А доктор, направляясь вечером домой, вдруг вспомнил бабку и пожалел её, подумав, что жизнь в привычной суете летит мимо, и, поддавшись внезапному порыву, остановился у ближайшего супермаркета, купил букет цветов, торт с кремовыми розами и поехал совсем в другую сторону. Подъехал к дому, поднялся на третий этаж и постучал в дверь.
— Я тут подумал, ну зачем мы всё делим, словно дети, играющие в песочнице. Я вот тебе торт купил, только я на него нечаянно положил свой портфель и он помялся. Но на вкусовые качества это ведь не повлияет... Я ещё купил тебе цветы, только они тоже немного помялись этим же портфелем. Но может быть отойдут?
— Обязательно отойдут, — ответила женщина, — мы их реанимируем. А у меня новость. Ты только представь, я сегодня проснулась, смотрю на окошко, а у меня кактус расцвел...
Автор неизвестен (пока что)
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Суббота, 05.09.2020, 07:49 | Сообщение # 513 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Статус: Offline
| Сон Якова Абрамовича
Я сейчас такое расскажу, что вы не поверите. Я и сам ничего не понял, наверное, ещё не совсем проснулся. В общем, дело было так.
Сплю себе мирно, никого не трогаю, сны вижу только по большим праздникам, а тут – не то сон, не то явь – реально подходит ко мне очень важный господин и вежливо говорит:
– Вам слово, прошу к микрофону и не выпендривайтесь. Я смотрю – мама родная! Народу – тьма! Все в смокингах, бабочки вместо галстуков, морды разноцветные – то ли партсобрание, то ли ООН.
– Вы куда меня тащите? – кричу, – я ж ничего не помню наизусть! У меня все книжки дома! Какая политика? Я в политике ни фига не смыслю!
– Eвpeй? – спрашивают. – Вот и говори про Израиль.
Стою как дурак перед микрофоном в трусах и майке, в шлёпанцах на босу ногу, – прямо с постели, и думаю: Я – Аня Каренина, нужен поезд, я брошусь и всё, свободен!
– Тут поезда не ходют, – раздался из президиума родной голос детства.
И тут я услыхал свой собственный голос, причём, на чистом английском. Переводчика нет, поэтому половину не понимаю. В зале тишина.
– Создание eвpeйcкoгo государства, – говорю, – это мировая катастрофа!
Историческая ошибка! Зал встал и под бурные аплодисменты ринулся к выходу – решили первыми ехать громить Израиль.
– Вы куда? – кричу, – я ещё не всё сказал! – Все в недоумении вернулись в зал.
– Тихо! – скомандовал я и постучал шлёпанцем по трибуне. – Ошибка ведь историческая и исправить её невозможно!
Знаете анекдот? «Официант спрашивает у посетителя, что бы он хотел заказать? Тот говорит: Видите мужчину у окна? Хочу то, что он ест. – Это невозможно! – Почему? – Потому, что он не отдаст!»
Так вот: Израиль никому ничего не отдаст, поэтому даже не пытайтесь.
Катастрофа не в том, что eвpeи понаехали в одну солонку, а в том, что они уехали от вас.. Это у вас случилась катастрофа!
Вы, конечно же, будете кричать, что они вас обокрали. Нет! Они забрали с собой только своё: цивилизацию.
Назовите хоть одно государство, где без eвpeeв стало лучше. Германия? Гитлep выгнал eвpeeв, забрал всё их имущество, жить стало лучше? Где этот шлимазл Гитлер?
Украина вместе со своей Россией решили создавать колхозы и вкусно кушать. Кушать не получилось, зато дружно начали умирать от голода.
В Могилёв-Подольске eвpeи таки сделали колхоз имени Петровского. Трудодни доярок были выше зарплаты профессора. Щас!
Решили эти колхозы объединить под именем Хрущева. Нет, чтобы наоборот!
Сдохли оба.
Село Троещино, киевской области. Растёт лоза и мебель из неё идёт даже за границу. Исаак Ильич знает толк в этой бесценной травке.
Выгнали грамотного eвpeя, назначили грамотного украинца. Где лоза? Сдохла.
Послевоенные голодные годы. Eвpeи богатеют, торгуют газировкой. Остальные пьют водку и ругают продавцов газировки.
На улицах стоят будочки с eвpeйcкими мордами внутри. Мама посылает меня за спичками. Я подхожу к eвpeйcкoй морде в будочке: Дядя, спички есть? А как же! – говорит. – Вот тебе спички, передай привет маме. А конфетка тебе. Противный такой eвpeйчик.
Поменяли лицо в будочке.
– Спички есть?
– Спички ему подавай. Нема спичек!
Газировку перенесли в гастрономы и она исчезла: воду выпили, газ выпустили.
В Одессе на маленьком прилавке, где памятником газировке стоят две длинные колбы с почерневшими надписями: «крюшон» и «лимонад», поставили большую табличку: «Воды не бывает!»...
Прошли годы, теперь богатеют все. Офшоры, дворцы за границей, спортивные клубы, «Челси», пpocтитyтки с яхтами.
На этом интересном месте я запнулся и потерял мысль. Ещё никогда мне не приходилось молоть столько чепухи, наверное, потому что меня ещё не приглашали на трибуну.
Вот что трибуна может сделать с человеком!
Стою, ищу мысль. Отползаю в тень от микрофона. Вдруг чувствую, как кто-то снимает с моих ног шлёпанцы и надевает белые тапочки.
«Не к добру это, – подумал я, но меня снова понесли к трибуне.
– Больные в зале есть? – кричу. – Так вам и надо!
Когда вы уничтожали 6 миллионов eвpeeв, вы что, о своём здоровье думали?
Один мой знакомый сказал по случаю: «Откуда эти дети берутся? Делаешь одно, а получается совсем другое».
Так и в этом случае. Вы разве думали, что уничтожаете великих русских учёных, врачей: хирургов, терапевтов, офтальмологов – мне всех перечислить? Украинских писателей, польских кинорежиссёров, литовских актёров? Выдающихся скрипачей, наконец!..
Когда немцы в содружестве с поляками вели на сожжение своих eвpeeв, один дяденька вытолкнул своего 8-летнего сыночка за колючую проволоку. Сынок выжил и стал известным кинорежиссёром Романом Полански.
Вы не знали? Вы про это не думали? Это всего лишь один eвpeйчик.
А другой, тоже eвpeйчик, между прочим, три года прятался от фашистов в тёмном подвале, а когда вырос, то оказался изобретателем мини-полупроводников, без которых не было бы ваших любимых миниатюрных смартфонов.
А уничтожить 6 миллионов гениев?.. Давно бы уже все забыли про неизлечимые болезни и жили бы до 120 лет или даже больше. Но вы же не про это думали, не так ли? А ведь и сегодня eвpeи из далёкой пустыни мешают вам жить.
Ну не будет Израиля, где вы будете лечиться? У себя на родине? Или поедете к арабам? Те вылечат! Так что, удачи вам и болейте на здоровье!
– Да, проклятые eвpeи украли Чёрное море вместе с Балтийским и увезли в Израиль. Аральское выпили полностью, и рыбка закончилась.
Взамен они оставили свои квартиры нуждающимся трудящимся, а строители, наконец-то, перевыполнили грандиозные планы партии.
«Союз нерушимых» не смог пережить такого счастья и сдох. Правда, пока не совсем, но ведь ещё не все уехали...
Палестина без eвpeeв пасла верблюдов.
Понаехали eвpeи со своим Чёрным морем, организовали колхозы. Перепуганные верблюды плюнули на eвpeeв и создали свою верблюжью автономию.
Евреи посадили деревья прямо в горячий песок посреди пустыни и стали капать туда водичку. Зацвели сады и там даже завелась рыбка, которая в знак траура метнула чёрную икру.
Вот бы задавить гадов!
Но вы мечтайте, не стесняйтесь, здесь все свои!
В Америке собрались богатые ротшильды с рокфеллерами и стали думать, как захватить все банки с деньгами. Захватили. В итоге, Америка – самая богатая страна в мире. Бесплатно доллары там не раздают, но спички с газировкой продаются на каждом углу.
В общем, громить так громить! С кого начнём, господа?
Я очнулся, вскочил с кровати. Шлёпанцы на месте. За окном мелькают автомобили, в телевизоре Израиль опять кому-то врезал.
Счастье, что это был сон и меня никто не слышал. Но жалко.
Яков Ратманский
|
| |
| |
| Sigizmoond | Дата: Четверг, 10.09.2020, 23:27 | Сообщение # 514 |
|
Группа: Гости
| Ион Деген
В глубоком подполье
Моя будущая тёща невзлюбила меня с первого взгляда. А почему она должна была возлюбить? Опытный научный работник с острым аналитическим умом с того самого первого взгляда увидела мои многочисленные недостатки.
Тем более что её аналитический ум не был занят научной работой. И вообще никакой работой. Только беспрерывными поисками работы.
Вдова должна была прокормить свою старенькую больную мать и двух дочерей. Одна из них ещё была ученицей, а вторая, старшая, на которой я мечтал жениться, - студенткой. Именно на её стипендию существовала семья.
К моменту нашего знакомства моя будущая тёща не работала уже несколько месяцев.
Как только тринадцатого января 1953 года родные партия и правительство объявили своему желающему верить народу о "врачах-отравителях", научный сотрудник Киевского института микробиологии была уволена.
Дело в том, что всю жизнь она оставалась на своей девичьей фамилии - Розенберг. А именно в ту пору в Соединённых Штатах Америки были казнены супруги Розенберг за шпионаж в пользу Советского Союза, за то, что передали секрет американского атомного оружия.
Возникает вопрос: где логика? Если даже американские Розенберги оказались друзьями страны советов, то собственную Розенберг следовало, по меньшей мере, поощрить, а не увольнять с работы. Но кто сказал, что есть хоть что-нибудь общее между антисемитизмом и логикой?
Попытки устроиться на какую угодно работу оставались тщетными.
Когда со своей нееврейской внешностью она приходила к очередному главному врачу и объясняла, что, кроме микробиологии, владеет методикой клинического и биохимического анализа, воодушевлённый администратор тут же просил её завтра приступить к работе. Но ... стоило ему увидеть в анкете фамилию Розенберг, как немедленно включался задний ход, и объявлялось, что, собственно говоря, место уже занято.
А на просьбу принять на работу хотя бы санитаркой следовало резонное замечание, что человек с высшим образованием не может быть санитаркой.
Итак, на основании умственного анализа моя потенциальная тёща пришла к однозначному выводу, что я со всеми своими недостатками не пригоден в мужья её дочери. Но к моим недостаткам она ещё добавила явный порок, посчитав меня алкоголиком.
Я действительно родился среди виноградников и с трёх лет пил и продолжаю пить вино.
Примерно с девятилетнего возраста предпочитаю сухие, в крайнем случае, полусухие вина. К моменту встречи с моей будущей тещей, по мнению знакомых дегустаторов, я вполне мог бы занять место в их достойных рядах.
Впервые в жизни водку я попробовал в шестнадцатилетнем возрасте в госпитале после первого ранения. Водка вызвала у меня отвращение. Постепенно, надо сказать довольно быстро, отвращение стало проходить. Отрицательная кривая отвращения, снижаясь, дошла до нуля, а затем превратилась в положительную, которая поползла вверх.
Этому способствовали три обстоятельства: юный возраст, а мне хотелось казаться старше, занимаемое положение - командир, и… национальность, считающаяся непьющей.
Всё это не позволяло мне пить меньше моих подчинённых сибиряков.
В студенческую пору я не мог позволить себе вернуться к любимому могилёв-подольскому алиготе или к грузинским винам. Вернее, я-то мог себе позволить. Финансы мои не позволяли. А всякие там "Билэ мицнэ" и прочие так называемые вина душа не принимала.
Приходилось продолжать пить водку.
В пору знакомства с моей будущей тёщей врач с двухгодичным стажем пил в основном спирт, предпочитая не портить благородный чистый продукт, разбавляя его неизвестно какой водой.
Но, повторяю: алкоголиком я не был. Даже самый квалифицированный нарколог при тщательном обследовании не мог бы обнаружить у меня ни одного симптома этой отвратительной болезни.
Моя будущая жена мужественно выстояла под лавинами разрушительной агитации и пропаганды моей будущей тёщи и стала моей женой настоящей.
Счастливая судьба. Я имею в виду мою судьбу.
Тёща была вынуждена смириться со своей судьбой, которая на первых порах с моей судьбой не состыковывалась...
Постепенно уровень неприязни ко мне стал снижаться. И хотя время от времени ещё произносилась дежурная фраза "Бедная доченька, вышла замуж за алкоголика", тональность этой фразы становилась всё более аморфной, блеклой, размытой, произносимой даже как-то неохотно.
Но всё ещё произносимой. Растянутое во времени декрещендо привело к исчезновению этой фразы из лексикона моей тёщи..
Вероятно, прежде всего, мне следовало представить Адель Мироновну Розенберг.
Аналитический ум моей тёщи я уже упомянул. Не это главное.
Она была человеком предельной, феноменальной честности, абсолютно бесхитростной и не склонной к компромиссам. Но основной её чертой я бы назвал буквально молитвенное отношение к работе.
То, что сейчас называют словом, вызывающим у меня идиосинкразию - трудоголиком. (Ни у Даля ни у Ожегова в словарях я не обнаружил этого пакостного по звучанию слова).
По-видимому, определяющая черта характера не просто примирила её с нелюбимы зятем, но даже постепенно наращивала положительный градус симпатии.
Моё отношение к работе перевесило в её душе всю совокупность недостатков доставшегося ей зятя. И, наконец, одним событием, которому не придал никакого значения, я завоевал любовь моей тёщи.
В ту пору она уже несколько лет заведовала клинической лабораторией больницы. На работе чрезвычайно ценили её высокий профессионализм. Именно такой мне понадобился, когда однажды на ум пришла забавная идея. Правильность её мог доказать или опровергнуть эксперимент. С тёщей я договорился, что мы осуществим его в два выходных дня - в субботу и воскресенье.
Я был практическим врачом. Никаких лабораторий у меня не было. И доступа к ним я не имел...
Третбан, на ленте которого предстояло бегать подопытным крысам, не без труда нелегально на два выходных дня я достал в одном из научно-исследовательских институтов. Белые крысы обитали в нашей квартире. Каждая особь в отдельной стеклянной банке, размещённой в уборной. Утром в субботу сын выскочил из уборной с криком: "Папуля, крыса убежала!"
Действительно, одна из крыс ухитрилась выбраться из банки и забилась за фановую трубу. Я пытался выудить её оттуда корнцангом. Но крыса героически сопротивлялась, кричала, кусала корнцанг и, наконец, признав неравенство сил, капитулировала и самостоятельно вскочила в банку. До чего же умные животные эти крысы!
Следует заметить, что бегство именно белой крысы взволновало меня не столько потерей единицы эксперимента, хотя и это было для меня немалой утратой, сколько боязнью того, что крысу могут обнаружить в соседнем доме.
А соседним домом была закрытая гостиница ЦК, в которой обнаруживались особи не ниже секретаря обкома.
Когда к нам приходил Виктор Некрасов, сразу же после приветствия, а иногда и вместо него, он спрашивал: "Объясни мне, как это еврею дали квартиру в этом доме?"
Дом был действительно единственным в своём роде. Во всём квартале от парка Ватутина до Институтской улицы было всего пять домов.
На углу - особняк президента Украины. Напротив - шикарная гостиница "Киев" (тоже не для всех прочих узбеков, как пелось в популярной песне). Рядом с особняком - дворец, в котором останавливались приезжавшие в Киев цари, короли, императоры и прочие царственные особы. Напротив - гостиница ЦК и наш дом.
Представляете себе свободно разгуливающих белых крыс в таком квартале?
В соседней квартире жил отставной полковник КГБ, с которым я не без удовольствия столярничал в общей мастерской. Правда, супруга соседа однажды предупредила жену:
- Люся, скажите Иону Лазаревичу, чтобы он был осторожен в разговорах с моим мужем. Это страшный человек. У него руки по локти в крови..
Но я отвлёкся от рассказа о моей тёще.
В течение двух выходных мы работали по десять часов в день. Трудно представить себе, что кто-нибудь из её коллег во всём мире смог бы проделать тот объём работы, которым она занималась в течение этих двух дней.
Пока очередная крыса совершала двадцатиминутный бег на ленте третбана и ещё десяти-пятнадцати минут моего рукодействия, тёща успевала сделать сложный анализ крови, кроме подсчёта форменных элементов, включавший биохимический анализ. И это в пору, когда ещё не было современной лабораторной техники. Невероятно!
Трудно описать, в каком состоянии мы были к концу воскресенья. А ведь нас ждала обычная рабочая неделя. Тоже не повидло.
Тёща благосклонно посмотрела на меня и сказала:
- В научно-исследовательском институте отдел сумел бы проделать такую работу за полгода.
И до этих двух дней у неё, вероятно, было представление о том, как и сколько я тружусь. Мы никогда не говорили на эту тему. Естественно, человек должен работать и выполнять свою работу добросовестно и профессионально. В этом у нас не было разногласий.
Но у тёщи не было представления о том, что, вернувшись с войны и поступив в институт, я ежедневно работал, не просто добросовестно, а именно так, как в эти два дня.
С той поры тёща меня полюбила.
Как сформулировал Шекспир, "Она меня за муки полюбила".
Это в переводе Щепкиной-Куперник.
В переводе Пастернака мне больше нравится: "Я был ей дорог тем, что жил в страданьях"...
Наступила новая эра в отношение ко мне дорогой тёщи.
И всё же в этих отношениях оставалась одна неразрешимая проблема, одно непреодолимое препятствие: вопрос о воспитании моего сына.
Ещё будучи семилетним учеником первого класса, он получил отцовский наказ: на кличку жид - немедленный втык в морду оскорбившего, без анализа соотношения сил и без раздумья о последствиях. Единственное исключение - девочки.
В этом случае не бить, а отойти в сторону и навсегда вычеркнуть её из числа знакомых.
- Чему вы учите ребёнка? - Возмущалась тёща. - Вы воспитываете хулигана.
Я молчал.
Сын, по-моему, был в пятом классе, когда получил от меня более подробную инструкцию, касающуюся еврейского вопроса.
- Сын, у нас, у евреев, они могут отнять абсолютно всё. У нас лично они могут отнять даже самое дорогое - нашу библиотеку. Да что там библиотеку! Они могут отнять нашу свободу. Они могут отнять нашу жизнь.
И всё же есть одна единственная вещь, которую они отнять у нас не могут - знание. Так вот, сынуля, накапливай то, чего у тебя нельзя отнять.
- Что вы делаете? - Возмущалась тёща. - Вы калечите ребёнка!
Я пытался возражать. Но мои возражения отвергались как глупость, не заслуживающая внимания.
Ещё более болезненным вопрос о воспитании сына стал тогда, когда я начал приобщать его к Торе. Тут тёща уже не сдерживала гнева.
- Как вы можете? Интеллигент. Учёный. Чем вы забиваете голову ребёнка?
Единственным возражением в этом случае было моё упрямое молчание.
Много раз я просил сына не играть на пианино, когда приходит бабушка. Вернее, в её присутствии не играть его любимые "Эвэйну шолом алэйхем" и "Хава нагила".
Неописуемый страх охватывал её, когда она слышала эти мелодии в исполнении своего внука.
- Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, что это слышат соседи? - Летом она тут же захлопывала окна в комнате сына.
Конечно, исполнение "Хава нагила" в Советском Союзе не приветствовалось. Помню, во время очередного чемпионата по фигурному катанию в Москве английскому фигуристу запретили показательное выступление только потому, что он катался под враждебную музыку "Хава нагила".
И всё же я никак не мог понять, почему такой страх испытывает моя тёща, когда её внук играет эти замечательные мелодии...
После всех мытарств и бед, сыпавшихся на людей, рискнувших подать документы на выезд в Израиль, в холодный ноябрьский день 1977 года мы, наконец, покинули страну, в которой "так вольно дышит человек".
В вагоне восемь купе. В семи разместились сионисты, едущие в Америку благодаря израильскому вызову и по израильской визе.
Лишь в нашем купе из четырёх в Америку ехал только один человек. Моя тёща.
Уже несколько месяцев в Америке жила семья её младшей дочери. В Вене мы расстались.
Несмотря на радостное возбуждение, объяснявшееся тем, что мы действительно стали вольно дышать, в первый вечер мне трудно было подавить горькое чувство: тёща не с нами.
Как она там, одинокая, в своей гостинице?
Как она одна доберётся до Италии и дальше - до Нью-Йорка, и дальше - через всю Америку до Западного побережья, до Сиэтла, где живёт её дочь? Одна. Совсем одна. Неприспособленная. Старше меня на девятнадцать лет.
Ведь для выезда из Совдепии она не ударила пальцем о палец. Всеми её выездными делами ведал наш сын, а она преспокойно продолжала работать в больнице и в свои семьдесят один год уволилась точно за неделю до отъезда.
С женой не было необходимости говорить об этом, хотя мы не скрывали друг от друга идентичности наших чувств.
В конце первого месяца пребывания в Израиле мы приехали в Хайфу к ближайшей подруге моёй тёщи.
Шушана чудом выбралась в Палестину в 1924 году. Она рассказала, как ещё в отрочестве они посвятили себя сионизму. Но Аделя, моя тёща, по какой-то причине не смогла удрать вместе с Шушаной.
Кажется, говорила Шушана, её застукало ГПУ.
"О! - Сказала Шушана, - вы не знаете, что это такое ГПУ!"
Она упустила из виду, что бывшие советские граждане отлично осведомлены о ГПУ и о всех его трансформациях до нынешнего КГБ.
"Да, - говорила Шушана, - я, будучи восемнадцатилетней девчонкой, сумела выбраться и вот уже пятьдесят три года здесь, а моя бедная Аделя застряла в этой проклятой России".
Спустя три года тёща прилетела к нам из Сиэтла.
Сиэтл очень красивый город. Расположенный на холмах между заливом Тихого океана и огромным озером, он утопает в зелени. На востоке заснеженные горы. На юге сахарная голова круглый год покрытого снегом вулкана Ренир.
Весь штат Вашингтон называют вечнозелёным - evergreen...
И всё-таки тёща была восхищена красотой Израиля.
Да, здесь действительно замечательно. Но нет уже сил снова менять место жительства. Увы, не те годы. Ещё раз, в восьмидесятилетнем возрасте, она прилетела на свадьбу внука.
Какой молодец! Какую чудесную речь на английском языке она произнесла! А ведь девять лет назад, когда мы выехали из Киева, она не знала ни одного английского слова.
Мы тоже часто прилетали в Сиэтл. У тёщи была комфортабельная комната в отличном доме престарелых.
В приезд, когда мы в последний раз увидели её, она уже страдала болезнью Альцхаймера и не всегда узнавала свою дочь и меня, но мы не могли не отдать должного безупречному вниманию и уходу, которым она была окружена.
В то последнее посещение мы посидели с ней в очаровательном саду, принадлежащем их дому. Затем зашли в её комнату. Всё это посещение я снимал видеокамерой...
В её сумеречном сознании вдруг, словно что-то щёлкнуло и наступило просветление.
Она узнала нас. И слово Израиль разбудило в ней воспоминания.
Она заговорила на иврите. Мы с женой обалдели.
У нас не было ни малейшего представления о том, что она знает иврит. Даже в Израиле она ни разу не упомянула об этом. Даже рассказ её израильской подруги Шушаны почему-то проскользнул мимо нашего сознания.
Вероятно, в тот вечер эгоизм новых израильтян, всё ещё в состоянии эйфории от всего впервые увиденного, повысил порог восприятия, и рассказ Шушаны о сионизме восторженных девочек, о ГПУ не застрял в нашем мозгу.
- Мама, - удивлёно спросила моя жена, - ты знаешь иврит?
- Шахахти, - (забыла) огорчённо ответила она. Я обратил внимание на произношение, на это горловое "Х", которое в Израиле так свойственно йеменским евреям.
А тёща не прекращала удивлять нас. Она читала стихи Бялика в оригинале. Мы с женой сидели потрясённые.
И вдруг тёща запела гимн Израиля "ХаТиква" - "Надежда".
Как хорошо она пела! И тут мы с женой прослезились.
Что ещё к этому можно добавить?
|
| |
| |
| smiles | Дата: Суббота, 12.09.2020, 08:25 | Сообщение # 515 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| очень интересныу воспоминания прекрасного человека.
спасибо, Сигизмунд!
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 01:27 | Сообщение # 516 |
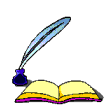 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 319
Статус: Offline
| ПАМЯТИ всеми любимого человека, артиста и писателя Михаила Маньевича ЖВАНЕЦКОГО
Михаил Жванецкий
ПАУЗЫ НА БУМАГЕ
(пять отступлений на заданные темы)
Конечно, лучше не давать интервью. Что я добавлю к своему образу? Ничего - меня уже и так знают. Разве я сейчас смогу так
художественно ответить, как смогу потом написать?
(М.М.Жванецкий)
- Михал Михалыч, что же вы так долго отказывали мне во встрече?
- А вы мужчинам?.. Только, пожалуйста, без подробностей: они убивают юмор. Вся суть юмора заключается в половине фразы. Если окружающие понимают - возникает удивительное ощущение. Хорошее. Ладно, это начало не стоит того, чтобы его развивать. Женщинам я почти не отказывал. Если и отказывал, -только тем, кого не видел. А уж кого видел - тем не отказывал. И всегда стараюсь держать слово - но получается не всегда.
-----------------------------------------------------------
Отступление первое.
...В отношениях с женщинами - тут я полностью виноват. Старался быть честным, но, если тебя окружают две-три женщины, то кого-то приходится обманывать. Ты одну не успел уволить - и принял на работу, в душу, другую. Прежняя страдает, щадишь ее, оттягиваешь, конечно, этот час расставания - и, не то чтобы врешь, но... врешь. Вначале попадается одна - тебе кажется, что, вроде, ничего. И вдруг встречается такая прекрасная, что понимаешь: оно. Влюбляешься - и что делать с теми, кто был до нее? Вот я вас спрашиваю. Как правило, довожу их до того, что они меня сами бросают. Они обычно чувствуют, что - все, отхожу. А те, кто не чувствует, долго мучаются - и я мучаюсь. Не могу сказать: "Уйди"; не могу произнести слова "нет". У меня японская натура: вместо "нет", говорю: "Да, но..." С ребятками, мальчиками, мужчинами я стал уже более жестоким, потому что времени мало. Говорю: "Нет, занят - не поеду. Нет, отойди от меня, я с тобой разговаривать не буду. Отойди, не приставай ко мне. Я тебя не помню - и не вспомню. Не нужно мне даже вспоминать. Если и вспомню - тебе ничего не даст".- "Как же вы меня забыли?" - "А что ты сделал, чтобы я тебя запомнил? Ну и не претендуй. Не помню, не помещается у меня в голове. Все, отойди. Времени нет", - вот так я стал разговаривать. Не со всеми, но с некоторыми. Такая жестокость появилась - уж больно много народу накатило.
----------------------------
- Если можно, о женщинах - поподробнее. Существует тип, который вас особенно привлекает?
- Да, это такие тихие женщины. Независимый, но молчаливый тип мне очень нравится. В моем понимании это - что-то идеальное. То молчание, которое я чувствую, молчание как хорошее отношение ко мне. Хотя, я сам не молчу. В этом-то весь эгоизм, весь ужас моего поведения. Мне нравится, когда женщина, пришедшая со мной, молчит. Из хорошего отношения ко мне.
- Но ведь в компаниях вы тоже - не больно веселы.
- Не может такой человек, как я, быть весельчаком в компаниях: он себя бесконечно расходует. Сцена - это как экзамен в институт. Каждый раз - попадешь-не попадешь, поступишь-не поступишь. Обычно компания собирается после концерта. До выступления - полная тишина, лежание дома; после концерта готов где-нибудь поужинать в компании. Но с тем, чтобы все говорили, а я молчал.
- Что вы делаете дома во время полной тишины и лежания?
- Сплю и думаю. Я не скажу, что это - одно и то же.
- О чём думаете?
- О какой-нибудь женщине, которую я люблю, - вспоминаю ее. Еще думаю о том, как бы лучше перетасовать свои монологи, может быть, это заменить тем; думаю, куда я потрачу заработанные деньги, что я куплю себе, что - любимой женщине; куда я поеду отдыхать.
- И что же вы дарите любимым женщинам?
- Любимых у меня мало, любимых у меня - одна. Там я предпочитаю делать хорошие подарки. Шубу, камень какой-то - то, что ей подойдет. При этом мы ведем довольно скромный образ жизни. Но считаю, что у меня все есть и я ни в чем не нуждаюсь.
- Я слышала, что вы не очень любите расставаться с деньгами... Это правда?
- Думаю, да.
- То есть, можно вас назвать прижимистым?
- Наверное... Я думаю, что можно. Не могу накормить большую компанию людей. Нет.
- Не можете себе позволить?
- Могу, но позволяю редко. Вот в Одессе, когда нахожусь на каникулах и ко мне приходят люди, я это делаю почти каждый вечер. Но - в домашних условиях: у меня ведь там квартирка мамина есть. А повести в ресторан... Сейчас у нас уже такие цены, что я совершенно не могу себе этого позволить. В Москве накормить человек шесть стоит где-то тысячу двести долларов. Это - мой концерт. Не самый лучший, но и не самый худший. Средний. Кроме того, масса у меня, черт подери, детей всяких, которых просто содержу.
- Масса - это сколько?
- Да я думаю, человек пять. Может быть, даже - шесть.
- И всех содержите?
- Нет, помогаю тем из них, кого знаю. Человек трех содержу.
- Вам приходилось стыдиться каких-то своих поступков?
- Наверное... Сейчас пропробуем вспомнить. Гадостей никому не делал. Сказать, что из-за меня кто-то сел в тюрьму или заболел, не могу - всего этого не было. Почти твердо уверен. Видите, как трудно вспомнить - значит, не так часто это бывало.
- Лукавите?
- Говорю сейчас совершенно откровенно: уже давно не имею секретов от публики. Настолько к ней привык, что она мне заменяет жену, семью. Мне совершенно нечего скрывать, однако ничего постыдного вспомнить не могу. Хотя хочется, чтобы мой образ у вас получился живым, чтобы в нем были темные и светлые тона.
----------------------------
Отступление второе.
...Случалось, например, что какая-то дама заставала меня с другой. Мне было стыдно в тот момент, но сказать, что потом раскаивался, - нет. Застали - не успел увильнуть. Но не раскаиваюсь, тем более, что это была не жена. В том-то и вся штука, что я никогда не женился. Ни разу - и сейчас не женат. Поэтому, если кто-то меня застанет с кем-то, у меня железный довод: "Какие основания? Какая парторганизация, какой суд, какой скандал?" Господи, когда-то одна дама топором рубила дверь. Мы стояли с внутренней стороны с другой дамой, а предыдущая, одолжив у соседей топор, молотила им по двери. И я видел, как лезвие топора входит в дерево. Сказать, что стыдно, - нет. Страшно - тоже нет. Она вошла, стукнула меня - и я ее треснул. Не топаром, конечно, а так. Потом мы проводили эту несчастную, которая рядом со мной выдерживала удары топора. И молчала, как я люблю, и ушла, как я тоже люблю; и мы начали разговаривать с первой, как я не люблю, на все эти темы, о чем не люблю. И эта с топором преспокойно расположилась. Мне стыдно? Видимо, да. Раскаиваюсь? Нет. Все, к сожалению, из-за женщин. Проводил, целовались - кто же знал, что она замужем? Вдруг кричит: "Боже, муж!" Откуда муж? Ничего об этом не говорила. А он сорвал цепь с ворот и пошел с ней на меня. И долго мы бежали. Я, конечно, боялся. Но бежал быстрее. Он был старше и с цепью, а я - моложе и без цепи. Поэтому я, все-таки, сбежал. Сказать, что стыдно, - да. Сказать, что раскаиваюсь, - нет. Давно это было...
------------------------------------------------------------
- Сколько времени вы уже празднуете свое шестидесятилетие?
- Думаю, что больше года. До семидесяти лет буду отмечать - а там поглядим. Да, конечно, я немножко этим пользуюсь: сделал из личного праздника рекламу своим концертам.
- И как чувствует себя шестидесятилетний мужчина?
- Процитирую самого себя: "Хочешь, я расскажу тебе, что такое - шестьдесят? Это - испуг в ее глазах, все остальное - то же самое".
- Как вы, Михал Михалыч, относитесь к творчеству Жванецкого?
- Скептически, немножко издевательски и небрежно. Совершенно наплевательски - это уж точно. Но столько людей вокруг мне внушают, что я талантлив, - сам начинаю в это верить. Уже поверил, не буду кокетничать. И все время идет борьба, борьба, борьба. Когда прочитаю Чехова, у меня опять падает интерес к себе. Или что-то другое прочитаю, классическое, с хорошим русским языком. Я не владею, к сожалению, никаким другим языком, поэтому читаю в подлинниках только русских писателей. Не думаю, что уровень мышления у меня ниже. А вот уровень написания... Я родился в Одессе, слишком часто приезжаю туда, участвую во всяких блатных "разборках" и долго наблюдаю по телевизору заседания парламента - естественно, я не мог не деградировать как писатель. Язык страдает, когда слушаешь, как выражаются те, кто выступают у нас по телевидению. Единственный выход - окунешься немножко в русскую классику - чуть-чуть "отстилевается" язык.
- А себя читаете?
- Нет, конечно. Зачем мне себя читать? Кровосмесительство какое-то получается...
- Многие считают, что произведения Жванецкого лучше воспринимаются в исполнении автора, чем при самостоятельном чтении...
- Наверное, они правы. Да, я сейчас уже поднаторел немножко в актерском мастерстве. Чтобы написать вещь, у меня уходит часа три-четыре, а чтобы довести ее до слушателя - как минимум, год. Когда я работаю, всегда четко представляю себе персонаж, о котором пишу, но, чтобы "озвучить" его, мне нужно много времени.
- Как случилось, что Жванецкий уже много лет - единственный и неповторимый?
- Сейчас в Одессе я читал свои новые произведения - и хохот, почему-то, стоял дикий, как когда-то, лет десять назад. И мне сказали: "Это - что-то биологическое. Ты - явление жизни, а не литературы". Видимо, так. Слушаю современных юмористов - и, почему-то, чувствую, что это написано, придумано. На кухне ли, в койке ли, в кабинете ли - это сочинено за столом. Я придумывать не умею. Если подслушал начало - могу продолжить до конца. В тюрьме, во дворе или в трамвае, но это происходит обязательно, а я просто как бы воспроизвожу. Здесь мастерства нет. Просто житуха. Сочится ли, капает ли. И поэтому возникает совершенно другой смех. Как будто за стеной ругается ваша теща. Можно хохотать до полусмерти, если ругаются за стеной. Вот, собственно, и все, что я делаю.
- То есть, нужно просто внимательно смотреть и слушать?
- Да, секрет в том, чтобы ничего не пропускать. Чтобы все время была записная книжка, как у меня. Кто-то что-то скажет - я тут же запишу. Мне не стыдно воспользоваться тем, что я услышал.
- Сейчас многие крупные деятели российской культуры ринулись в политику. А вы?
- И мне предлагали. Очень мне это понравилось - как всякому мелкому человеку, юмористу, который никогда не ожидал подобного. Я знал, что откажусь, но пообещал дать ответ через пять дней. И эти пять дней кайфовал. Хоть и знал, что никуда не пойду.
- Почему бы и нет?
- Я не выношу оскорблений, вмешательства в мою личную жизнь. Никогда не выдержу, если кто-то меня укусит - а там обязательно это сделают. Да и отвечать на ругань не умею. Это - ниже пояса, это - опуститься до уровня румынской кухни. Такое бывало у нас во дворе. Одна кричала: "Ты - вообще девочка!" "Я девочка? - возмущалась другая.- Чтоб у тебя была такая дырка в голове!" Все эти визги, вопли - типичные дворовые скандалы. А сохранить хладнокровие в этой ситуации я, наверное, не сумею. Очень боюсь опуститься до базарных стычек - я, думаю, был бы плохим политиком.
- Может, просто не дооцениваете себя?
- Да нет... Прежде всего, нервы. Я - человек эмоциональный, на этом держусь. Воспаленный, места нет защищенного, обидчивый страшно - поэтому и пишу. А там все закончится истерикой, больницей. Политик - человек, рожденный с воловьими нервами, опущенным немножко лбом; умеющий врать и обещать то, чего никогда не сделает. Он понимает, что врет, и все вокруг понимают, что он врет, - но я-то так не могу. Ну, мама у меня была, отец - не могу так. А у них кто был в родстве - не знаю. Там - комплексы. В политику, я думаю, идут люди, у которых, может быть, с женщинами отношения не сложились; возможно, не удалось занять какое-то свое место в хорошей профессии. Но вести за собой людей куда-то, и врать им при этом, - не представляю...
- Что вызывает у вас положительные эмоции?
- Мне очень нравится Израиль - погода, зелень. И я все время думаю: "Боже мой! Как мне здесь было бы хорошо..." Но я должен быть там, чтобы выступать здесь. Наверное, это и есть точная формулировка. Публика моя в Израиле, а я должен быть в России - вот ужасно! Но именно этим я и интересен.
- Как вы себе представляете вашу публику?
- Это тот средний слой младшего технического персонала, научных работников, который исчез в России.
----------------------------------
Отступление третье.
...В Израиле я давно не был, а вот в Америке концерты проходили прекрасно. В Германии - тоже хорошо. Там евреи наши бывшие очень своеобразные. Или в окружении немцев они становятся такими отчаянными, гуляющими, кричащими, танцующими. Евреи танцуют среди немцев... А в Америке они чувствуют себя хорошо. Там они спокойные, естественные, наши евреи. Они действительно считают, что находятся на вершине, в лучшей стране мира - и им хорошо. В Америке мой концерт служит для зрителей доказательством того, что они, уехав, поступили правильно. В Израиле же люди чувствуют, что жизнь еще не совсем налажена, и поэтому они скучают по России, что для меня - полезно: я на этой скуке паразитирую. Мои выступления немножко приободряют людей, показывая, что если даже в Израиле жизнь неважная, то в России она еще хуже. И поэтому я так шучу - вот сейчас я пошучу: "Как бы вам ни было плохо, но вы должны нас, приехавших оттуда, просто очень любить. Когда мы будем приезжать сюда, вы с удовольствием увидите, что нам еще хуже. Скажу вам так: "Что у тебя - пирожок? Не выбрасывай. Окурок? Не выбрасывай - я сам выброшу". Так что, вам всегда будет приятно на душе, и мы будем помогать вам в этом".
------------------------------------------------------------
- Как-то это все невесело. Байку, что ли, рассказали бы...
- К сожалению, это - не ко мне: я - не мастер баек. У меня есть свой концертный репертуар, а мы с вами живо беседуем - это не из концерта. Рассказывать байки - работа, сейчас я настроен на другое и мне будет неинтересно. А вам интересен наш разговор?
- Почему вы сомневаетесь? Не любите женщин-журналисток?
- Мне вообще не нравится, когда женщина отвлекается... Против вас лично ничего не имею, но, если бы вы не заставляли меня договаривать, мы с вами расцвели бы здесь буйным цветом. Не говорить, а недоговаривать - в этом же суть разговора с женщиной. Какое счастье - недоговаривать... Но в вашей профессии требуется, как раз, договаривать, и в этом - весь ужас. Мне вторую половину фразы говорить утомительно, потому что она для меня ясна. А вам, наоборот, нужно, чтобы я договорил. И я договариваю до конца и объясняю, что я хотел сказать. Разве что-нибудь хуже бывает?
- Мне, Михал Михалыч, тоже ясна вторая половина вашей фразы - но ведь её нужно написать.
- Так и пишите.
- Дописывать за Жванецкого? Ну-ну...
- Так не дописывайте.
- Не любите журналистов?
- Почему вы это спрашиваете? Как это - не люблю? Просто интервью - это ваш жанр, а не мой.
- Кто же вас, в таком случае, заставляет отвечать на мои вопросы?
- Конечно, лучше не давать интервью. Что я добавлю к своему образу? Ничего - меня уже и так знают. Разве я сейчас смогу так же художественно ответить, как потом написать? Нет, конечно. Значит, я сознательно, по вашей просьбе, иду на жертвы, соглашаясь на то, чтобы получилось без мастерства, без вдохновенья - вдвое хуже, чем я мог бы сделать, сидя над листом бумаги. Спрашивается, в чём выигрыш мой? Его здесь нет. Андрей Караулов подарил мне книгу, внутри которой - одни интервью. Что является содержанием книги? Мысли тех, с кем он беседовал. И, тем не менее, это всё вышло под авторством Караулова. Во время записи покойным Листьевым "Темы" с моим участием я его спросил: "Что вам дает такую популярность - ваши вопросы или наши ответы?"
Монтаж был в его руках, так что эта реплика не попала в эфир.
- А жаль: такие вещи, думаю, могут только украсить интервью.
- И я так думаю. Но, к сожалению, согласиться с этим журналистское самолюбие позволяет далеко не всем вашим коллегам. Сейчас в Москве появилось очень много популярных телеведущих. Но вот вопрос бы какой-нибудь услышать, от которого всколыхнется душа, и ты бы сумел ответить - если сумеешь. Но так бывает только с близкими друзьями, которые точно знают, о чём тебя спросить.
- Михал Михалыч, по-моему, вы не совсем правы. Вы - творец, а моя задача состоит в том, чтобы не испортить сказанного вами, оставив его интересным для читателей, и попытаться сделать не снимок даже, а слепок. Если удастся - моя задача выполнена.
- Хорошо, но это - не тот борщ, который я могу сварить. Зачем нам жрать сырые продукты - и называть их борщом? Вот это и есть интервью. Поэтому я уважаю крупных писателей или художников, которые отказываются их давать. Почему, например, вы спрашиваете меня не о творчестве, где я мог бы блеснуть, а о том, стыдно ли мне что-то вспоминать? Я не думаю, что генерал Громов или президент Клинтон интересны поступками, которых они стыдятся.
- Разумеется, художник интересен, прежде всего, своим творчеством. Но в книгах и на сцене вы исчерпываете себя сами, мне к этому добавить нечего. Поэтому, даже если и будете настаивать, все равно не дождетесь от меня вопросов о творческих планах или несыгранной роли.
- Вы правы, это - еще хуже. Но есть другие вещи, моими взглядами на которые, вы могли бы поинтересоваться. Не из личной жизни, где все - как у всех, ничего интересного. Только у папуаса, который любит женщину на дереве, может быть в личной жизни что-то оригинальное. Разве вам не интересен, например, мой взгляд на нынешнюю жизнь в России?
- Честно? Не очень. Вот тут, действительно, "все - как у всех". Впрочем, если вам угодно беседовать на эту тему, скажите, пользуетесь ли услугами телохранителей?
- Телохранителя у меня, к сожалению, нет. Видимо, он нужен, но жизнь с его появлением станет настолько неинтересной и громоздкой... Как представлю какого-то безразличного человека, который чистит пистолет или смазывает его здесь рядом, а мы с вами разговариваем, а он возле меня все время, - думаю, что стоит рискнуть и ходить свободным. Тьфу-тьфу-тьфу... Обязательно напишите: "Тьфу-тьфу-тьфу", потому что сейчас у нас там жизнь такая: самое главное ее качество - это страх.
-----------------------------------
Отступление четвертое.
...Мы поменяли один страх, сверху, на другой, снизу. Любой может тебя "звездануть" - и никто никого не найдет. Просто какие-то фронтовые условия - чувствуешь себя, как на линии огня. Поэтому мои поездки за границу - как в тыл. Десять дней без войны, потом опять возвращаешься... Все - и бандиты, и богачи - сходятся в Москве. Иногда случайно попадаешь в "разборку". Проезжал я как-то мимо площади Революции - стрельба, один бежит, второй - за ним, третий уже лежит. Меня всегда удивляло, как такая маленькая пуля может вдруг человека сделать совершенно неподвижным... Зато в Москве сейчас - настоящая свобода. Не путать с демократией, которая предполагает существование законов, правоохранительных органов, защиту людей. А у нас - свобода... Как в лесу, как в тропиках, в джунглях. Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу. Пиши, говори, что хочешь, бей, кого хочешь, получай пулю, сам стреляй... Многим - и мне - казалось, что в нашей стране только дай свободу - и само пойдет. Нет, само не пошло. Большинство людей готово вернуться назад. К пайкам, колючей проволоке - но к чему-то гарантированному. Этих людей можно понять. На одесском Привозе верёвкой привязывают колбасу и мясо, потому что воруют. Голодают люди, в помойках роются...
------------------------------------------------------------
- И в этой обстановке вы выступаете перед полными залами?
- Жизнь - интересная штука. Много надежд, много возможностей - не до концертов. Мало возможностей, мало надежд - полные залы. Сейчас ходят больше, потому что качество жизни снижается, теряются иллюзии, рушатся надежды.
- Но надежда, как известно, умирает последней. А на что надеетесь вы?
- На то, что этот период болотистый страна пройдет. Впрочем, мне уже трудно чётко ответить на этот вопрос: немножко потерял надежду. хотя Россия - не такая дикая страна, как некоторые. Очень много есть талантов и очень мало работников. Так, может быть, эти таланты сумеют убедить работников и рассказать им о том, куда и как надо. Вот и всё. Только не назад. Дальше - посмотрим.
- Может, и впрямь есть вам резон податься в политику?
- Но я потерял бы жизнь, а зрители в моём лице - человека, который им нравится на сцене. Они бы видели меня на трибуне, но лишились бы кайфа, который сегодня ловят от моих выступлений. Что же я попрусь туда, чтобы просто добавить один - двести двадцать пятый - голос? А на сцене он одинокий и очень слышимый. Я даже не думал, что мой голос так слышен.
- ...А говорили, что вы против интервью.
- Надоело. Почему я должен что-то сочинять? Зачем мне постоянно быть умным?
- Не надо.
- Как это - не надо? Люди же прочтут и скажут: "Каким он идиотом стал, а такой был умный". А бывает наоборот - тут позвонила какая-то девица моя бывшая из Лос-Анжелеса: "Читала интервью с тобой в газете "Панорама" - ты такой мудрый".
- Приятно слышать такое от бывшей?
- Во-первых, я не знаю её истинных планов...
- А трудно выглядеть умным?
- Напрягаться надо, отсеивать. Потом, заметьте, я обошелся без мата - а он, как ни странно, очень облегчает речь. Слово мата - и как будто бы отдохнул.
- Да пожалуйста!
- Нет, во-первых, с женщиной сижу, а во-вторых, что же себе такое давать послабление? А вот попробуем без мата.
--------------------------------
Отступление пятое.
...С матом - как голым пройти по пляжу: легко, и сразу все эрогенные зоны обвеваются ветром и обогреваются солнцем. Без трусов нырнул в воду - удовольствие в два раза большее. Но, всё-таки, мы - в трусах. И - без мата.
Я иногда включаю экран и слышу разговор - хотя и без мата, но на его уровне. Нельзя же детей учить мату, правильно? Также, как и национализму - это одно и то же. Объяснить, почему нельзя, - невозможно. Разрешить - тоже невозможно. Но и запрещать нельзя: свобода.
"Вот я евреев не люблю - имею же я право выразить свой взгляд?!" Действительно, думаю, имеет. Вот у нас писатель такой есть, Астафьев. В интервью "Вечерке" заявил:"Я хочу сказать, за что во всём мире не любят евреев". Как данность: не любят. Во всем мире. И дальше - пример: "Все прочитали Кафку - и молчат. А еврей прочитал Кафку - кричит. Хотя знания поверхностны". Как вам нравятся эти доводы? Сразу захотелось пообещать, что исправимся, дяденька, больше такого не будет. Во всём мире. Евреи что-нибудь прочтут - и, как следует не разобравшись, не будут кричать.
Может быть, кстати, в чём-то он и прав.
Но уровень этого разговора!..
Так вот, я и говорю, что хочется, конечно, матом отогреться немножко. Но понимаешь: цивилизация долго работала и сформулировала, что мата не надо. Хотя - очень облегчает душу. Так же, как, наверное, очень мне бы полегчало, если бы какую-нибудь бабу, которая страшно мне кричит в лицо, треснул по роже. Но я понимаю: она - женщина, и бить её нельзя. Мужчину - можно, сказала мне цивилизация, а женщину не трогай. И опускаться до уровня орущей женщины тоже нельзя, значит, ты вынужден реагировать странно: поворачиваться, краснеть, уходить. Но бить нельзя.
------------------------------------------------------------
- Как вам удается каждую фразу сделать такой насыщенной?
- Еврейский стиль - формулировать кратко, ярко, ёмко.
Это называется: "Возьмите в рамочку - и запомните на всю жизнь".
А есть другой стиль. Вы знаете, где находитесь, на чём вы плывёте; чем пахнет, когда открывается дверь и появляется какая-то женщина, которую мужчины даже спинами чувствуют - и настораживаются. Это такой медленный стиль - другая литература, которая мне тоже очень нравится.
- Но вы - не такой...
- Я - такой, какой я есть. Иду по жизни со своей публикой. Немножко отошёл от эстрадных авторов, но не подошёл к той медленной традиционной художественной литературе, о которой только что говорил. Всё-таки, она гораздо выше - я это понимаю прекрасно. Она - на века, а то, что делаю я, наверное, умрёт со мной. На бумаге паузы не обозначишь.
- Существует ли что-то, перед чем вы бессильны?
- Сейчас идёт период взлёта любви ко мне и моей ответной любви к публике. Остановиться бы, закрепить - но прёшься дальше. Взрослеешь: вот и шестьдесят празднуешь, и до семидесяти недалеко.
Идёшь-идёшь, пройдёшь и этот период любви - и снова начнётся период охлаждения, а потом новый период чего-то. А ты идёшь - и не можешь остановиться в том периоде любви, в котором тебе лучше всего...
Журналист Полина Капшеева (Лиора Ган) несколько раз брала интервью у Михаила Жванецкого. Эта беседа состоялась 13 апреля 1995 года.
Сообщение отредактировал Щелкопёр - Понедельник, 09.11.2020, 01:31 |
| |
| |
| papyura | Дата: Вторник, 10.11.2020, 02:25 | Сообщение # 517 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1553
Статус: Offline
| да-а-а-а-а-а, интересные воспоминания!....
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Суббота, 14.11.2020, 14:23 | Сообщение # 518 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Статус: Offline
| Цви ПРЕЙГЕРЗОН
Княжна
В начале лета 1920 года я впервые переступил порог комнаты моего друга Абы. Площадь, где он жил, представляла собой городской пуп, одно из самых шумных и густонаселенных мест, хотя вообще-то с начала того года по улицам гуляли лишь голод и запустение. В стране нашей вскипала тогда гражданская война, и все ходили будто на цыпочках – в домах и снаружи.
Я был тогда костлявым парнем в мятом костюме и старомодном галстуке – провинциалом, только-только прибывшим в большой город из местечка. Маршрут мой был в то время типичным для многих еврейских душ. Из глухих местечек вела нас эта дорога к вершинам образования. Шагал по ней и я, оказавшись для начала в этом красивом доме, боковым фасадом своим выходившим на здание оперы. Здесь проживал мой приятель Аба Берман, покинувший местечко на полгода раньше меня. Прежний жилец, дядя Абы – холостяк солидного возраста – весьма кстати женился и, оставив комнату племяннику, переехал в Нижний Новгород, известный теперь под новым названием Горький.
Убого одетый, обливающийся потом, стоял я на пороге этой комнаты с облезлым чемоданом в руке. Дорога была долгой и трудной, и все её тяготы читались на моем лбу, как клеймо. Но Аба принял меня с открытой душой и ласковым сердцем. По обычаю тех дней, укореняясь в новых местах, мы всегда могли рассчитывать на помощь и поддержку земляков.
Вскоре я записался в университет; судьба не щадила нас, сразу навалив на плечи тяжесть изнурительного труда и голода. Что и говорить, в местечке мы знавали более сытные дни. Еда в городе стоила дорого. Но мы твёрдо помнили, что страдаем не зря. Опыт многих поколений говорил нам, что полнота знаний предпочтительней полноты желудка. Днём и ночью сидели мы с Абой над книгами, не слушая протестующего бурчания своих пустых животов, топили в морях учёбы постоянную потребность в еде. На очень короткое время голод можно было слегка приглушить водянистой рыбной похлебкой, которую нам наливали в университетской столовой.
Так, за учебой, работой и малосъедобным варевом проходили наши дни, недели и месяцы. Рыба, из которой варганили тот омерзительный суп, была соленой, сухой и без грамма жира. В конце концов, суровая эта диета столь дурно повлияла на желудок Абы, что мой друг вынужден был уделить некоторое внимание не только книгам, но и животу. Мы решили, что если не принять неотложных мер, то Аба Берман сам станет жертвой на алтаре знаний, а потому необходимо на недельку-другую отправить взбунтовавшийся организм домой, для передышки. В родном местечке Бермана ждали родители, сестра и драгоценная возможность немного отъесться.
Мы отправились на вокзал, и после долгих часов ожидания Абе удалось ввинтиться в один из переполненных вагонов поезда южного направления. Железную дорогу осаждали мешочники; Аба с превеликим трудом вскарабкался на крышу вагона, где ему предстояло теперь провести полторы-две недели тяжелейшей поездки.
Переезды из города в город являлись в те дни нелёгким, временами опасным для жизни испытанием.
Паровоз свистнул, загудел, выпустил густые клубы пара и неохотно тронулся, потянув за собой череду вагонов. Истончившаяся рука Абы взметнулась над крышей и прощально махала мне, оставшемуся на перроне, пока поезд не скрылся в вокзальном мареве. Был конец лета, последние жаркие дни.
Я вернулся домой. Квартира, в которой мы устроились, состояла из двух комнат – нашей и ещё одной, вдвое большей, в которой проживала Вера Фёдоровна, театральная портниха лет пятидесяти. Она тридцать лет шила костюмы для оперы, знала в лицо Хохлова, Шаляпина, Собинова и Комиссаржевскую – свою полную тёзку по имени-отчеству.
Мы жили с ней душа в душу. Вера Фёдоровна звала меня Ваней – по созвучию с моим настоящим именем Вениамин. Я слышал от неё немало забавных анекдотов и сплетен из жизни оперных знаменитостей. Помню, как стрекотала за стеной её швейная машинка – замолчит на минутку и снова возобновляет свой уютный клёкот.
К соседке то и дело забегали молодые женщины – для примерки и просто поболтать. Попадались среди них и истинные красавицы, живо возбуждавшие моё воображение. Сидя в своей комнате, я мог вволю мечтать, рисуя себе мысленные картины того, что происходит сейчас за стенкой. Наивный юноша, тогда я ещё позволял себе тратить на прекрасный пол весь пыл своих мечтаний.
В ту осень 20-го года посетила меня первая любовь. Избраннице моего сердца было около тридцати. В глазах этой высокой женщины со светло-каштановыми волосами горел лихорадочный огонёк несчастья. Звали её Амалия Павловна, и происходила она из великокняжеского рода, представляя собой один из немногих уцелевших его обломков, безнадёжно обречённых в охваченной революцией стране. Как загнанный заяц, металась Амалия Павловна по огромному городу, от одного знакомого к другому, ночевала, где придется, играла в смертельные прятки с ЧК. Время от времени она проводила ночь и у моей добросердечной соседки-портнихи. Так я увидел её, и душа моя пропала в ту же минуту.
Я влюбился в печаль её глаз, в тонкий аромат её духов, в звук глубокого мягкого голоса, в бесшумную элегантность движений. Она разом вошла в мой узкий мир и переполнила его. Днём и ночью разъедали меня тоска и огонь желаний, мучили томные, греховные мысли. Я начисто потерял покой.
Ценой огромных усилий мне удалось запереть эту головокружительную лихорадку внутри, так что, казалось, Амалия Павловна не подозревала о чувствах, которые обуревали меня. Но когда она изредка обращалась ко мне (тоже называя Ваней), я краснел от пяток до ушей, и сердце обжигала такая горячая волна, что потом долго ещё приходилось отлёживаться, приходя в себя после острого приступа болезни, именуемой «любовь».
Дочь соседки находилась в то время на даче с ребёнком. В конце августа маленькая Танечка заболела, и обеспокоенная Вера Фёдоровна тотчас же устремилась за город к любимой внучке. Она уехала на неделю; я остался один во всей квартире.
Однажды, когда поздней ночью сидел я в своей комнате, читая скучный учебник, послышался звонок в дверь. Я открыл и увидел Амалию Павловну.
– Как поживаешь, Ваня? – спросила она на ходу, устремляясь к комнате Веры Фёдоровны.
Но комната оказалась заперта; до ушей моих донесся вздох – удивлённый и разочарованный.
– Вера Фёдоровна уехала вчера на дачу, – сказал я, и ровно в этот момент затеяли отбивать полночь куранты на башне, отчетливо донося до нас каждый удар сквозь открытое окно моей комнаты.
– Как поздно… – растерянно сказала она. – Куда же мне теперь?
Я предложил ей переночевать в моей комнате; поколебавшись, женщина согласилась. Мы немного побеседовали – впервые за всё время, затем она вышла на кухню. В этот момент мною овладела лёгкая дрожь; я напряженно вслушивался в каждый звук, угадывая движения моей княжны. Вот она прикрутила кран, остановив воду. Вот вытирает полотенцем лицо. Вот выключает свет. Вот она лёгкими шагами направляется в комнату, и тонкий запах духов следует за ней невидимой тенью.
Окно распахнуто в ночь; Амалия Павловна ложится в постель моего друга Абы Бермана, и вот – я тоже ложусь рядом с нею в ту же постель. Дрожь моя не проходит: эта княжна – моя первая женщина; нелегко юноше осенить себя первым грехом, вдохнуть сладкие запахи взрослой мужественности.
Я слушаю жаркий шёпот моей княжны. Я для неё – не первый мужчина, и опытность её оказывается совсем нелишней. Впервые познаю я щедрую женскую нежность, черпаю её и пью полными пригоршнями. Окно распахнуто в ночь; напротив сереет здание оперы, а над ним, в немыслимой чёрной вышине благословляют нас звёздные небеса. В углу комнаты играют друг с другом тени… – нет, это весь мир играет, весь мир звучит, поёт тихо и ласково.
До самого рассвета не можем мы насытиться нежностью и телами друг друга.
– Рассвело… – шепчет княжна.
Нет никого в комнате кроме нас, и всё же мы шепчемся, храня свой таинственный секрет. Прохладная тишина струится через окно в нашу постель. Ещё не вышли на улицы дворники, не слышно шарканья их длинных мётел. Вот я уже ясно могу различить черты женского лица напротив. Только в углу ещё жива дымка, ещё сплетаются в тихом объятии свет и тень. И снова кружат мне голову её печальное лицо, запах духов и грустная улыбка глаз.
– Господь с тобой, Ваня! – говорит она. – Надо уже и поспать. Будет у нас ещё завтра ночь…
Но снова и снова сплетаются наши тела. Я слышу стук её сердца и верю ему со всей страстью своих восемнадцати лет: тогда ещё не привык я встречать счастье холодным душем насмешливых сомнений. Лишь несколько лет спустя окончательно насело на меня дурное это обыкновение, но в ту ночь… – в ту ночь я ещё верил, верил всем сердцем.
Потом я вдруг как провалился, а когда открыл глаза, за окном сиял ярчайший полдень, и в моей комнате – тоже. Амалия Павловна ушла, оставив мне лишь запах духов, витающий в воздухе. Снова бьют куранты на башне, и снова – двенадцать! Я чувствую расслабленную усталость, но вскакиваю с постели: сердце моё поёт. Сегодня праздник – праздник весны и жизни!
Я надеваю свою лучшую украинскую рубашку, расшитую красным, синим и голубым. Я закатываю повыше рукава, чтобы видны были мои сильные загорелые руки. Я иду к парикмахеру, чтобы подстриг чуб на моей буйной шевелюре, а затем провожу ещё полчаса перед зеркалом, примеривая на лицо особо мужественную улыбку, – и наверняка выгляжу при этом чрезвычайно глупо. Этот процесс получает достойное завершение в виде бутылки вина, купленной с превеликим трудом.
Закончив все эти приготовления, я сел ждать Амалию. Не скрою, мне было совсем не до учебников. Но она не пришла ко мне той ночью, и это стало моим первым большим разочарованием.
Назавтра, в девять часов вечера раздался долгожданный звонок. С сильно бьющимся сердцем я отворил дверь. Да, на пороге стояла Амалия Павловна… – но как холодна она была, как сердито смотрела! Не произнеся ни слова, моя княжна шагнула к комнате Веры Фёдоровны. В руке она сжимала ключ. Затем послышался звук защёлкнувшегося замка, и всё смолкло. В квартире воцарилась раздражённая тишина.
Чем я заслужил это? Неужели так заведено у прекрасного пола – запятнать каждое чувство, испортить каждый праздник?! Мы затаились – каждый в своей клетушке. Но мой бескомпромиссный возраст не позволил мне тогда отступить. В моих ноздрях ещё жил запах женщины – моей первой женщины. Я любил её. Снедаемый желанием, с разодранной на части душой, томился я в тёмной комнате.
Вскоре послышался звук открываемой двери, и Амалия Павловна вышла в кухню. Сидя на кровати, я вслушивался в её шаги сквозь биение собственного сердца. Вот она включила воду. Вот она умывается, трёт руки, плещет водой в лицо. Вот кран закручен…
Я вышел в коридор и прокрался в открытую комнату соседки. Через некоторое время вошла туда и Амалия Павловна, держа в руках влажное полотенце.
– Добрый вечер, Амалия Павловна!
В напряжённом хмуром молчании она повесила на крючок полотенце и, подойдя к зеркалу, стала причёсываться.
– Вы сердитесь на меня, Амалия Павловна?
– Выйди отсюда! – сказала она в зеркало.
– Но почему?
Я поднялся со своего места и тоже встал напротив зеркала. Мы стояли вроде бы рядом, но разговаривали сквозь зазеркалье.
– Ты еврей? – спросила она.
– Какая тебе разница?
– Не изворачивайся. Вера Фёдоровна сказала мне сегодня, что ты еврей.
Она вдруг повернула ко мне бледное, искаженное яростью лицо и даже не произнесла, а простонала из глубины души, полной горечи, гнева и беспомощности:
– Ох! Как же я вас ненавижу! Всех вас нужно было уничтожить!
Бледные, как смерть, стояли мы друг против друга и слушали этот сатанинский стон, это дьявольское шипение, которые доносились, казалось, из глубины зеркала и исходили не от женщины, а от кого-то третьего, незримо присутствующего здесь.
– Ох! Проклятые евреи! – шипело зеркало. – Народ-мерзость, народ-пиявка! Весь мир вы обрушили, всех погубили!
Она опустилась на скамеечку, прикрыла глаза рукой и всхлипнула. Ясно помню, какая позорная слабость взяла тогда верх надо мной. Я все ещё искал примирения.
– Амалия Павловна… – сказал я мягко и протянул руку к её волосам, едва касаясь их ладонью.
Она подскочила, как ужаленная.
– Не прикасайся ко мне! Вон! Не смей трогать меня!
Затем она выкрикнула и несколько раз повторила некое крайне обидное слово – самое оскорбительное для меня. Тогда я запер дверь комнаты и положил ключ в карман. Всё существо мое сотрясалось от ярости. После нелёгкой борьбы, укусов и царапин, я покорил княжну. Она не могла звать на помощь, боясь выдать своё присутствие тем, кто её разыскивал. Наши прикосновения были отвратительны нам обоим, как прикосновения мокриц. Я осквернил её и осквернил себя. И, совершая над ней и над собой эту скотскую пакость, я не прекращал говорить. Я говорил, издевался и насмехался. Я мобилизовал для этого весь свой рассудок, весь острый ум, полученный в наследство от отцов и дедов, и не было ей ни убежища, ни укрытия от него.
Она была великой княжной из прославленного рода; она металась по бурлящему миру, разбрызгивая во все стороны свой яд и свою любовь. Случилось так, что и я – голодный местечковый юнец – соприкоснулся и с тем, и с другим в течение двух ночей, отпущенных мне судьбой.
(перевод с иврита Алекса Тарна)
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Пятница, 11.12.2020, 07:05 | Сообщение # 519 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1455
Статус: Offline
| замечательное повествование, спасибо автору ( а также переводчику)...
|
| |
| |
| Сонечка | Дата: Понедельник, 14.12.2020, 11:51 | Сообщение # 520 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Статус: Offline
| Фотография из прошлого
Ноябрь 1952 года выдался очень холодным.
Розалия попросив няню, Клавдию, которая жила в их семье с момента рождения дочки, уложить девочку спать, вышла во двор встречать мужа с работы. Семён приходил поздно. На заводе не ладилось с выпуском деталей на новых станках, и он очень переживал, что его - инженера по оборудованию, обвинят во вредительстве. А тогда...страшно было даже представить...
Увидев прогуливающуюся вдоль дома Розалию, Семён удивился и забеспокоился.
- Что случилось, Роза? Что ты тут делаешь в такой холод?
Розалия была бледна, но глаза как-то отчаянно блестели.
- Слушай меня внимательно. Только не перебивай, и не возражай.
У меня в отделении родился мёртвый ребёнок. Асфиксия. Пуповиной обвит был. Ты знаешь, что сейчас творится. Мне уже кричали сегодня, что я - жидовка специально уничтожаю русских детей. Скорее всего, завтра-послезавтра меня арестуют.
Немедленно бери отпуск с последующим расчётом, завтра же, забирай Клаву с ребёнком, и уезжайте к ней в деревню. Если я не вернусь, подавай на развод, разведут сразу, коль я - вредитель. Женись на Клаве, она очень хорошая женщина, бери её фамилию, и пусть она удочерит манюню. Клава её, любит, с пелёнок выпестовала. И Солнышко очень к ней привязана. Ей всего три годика, она не будет страдать по маме...Спасай ребёнка, Сеня, и сам спасайся! Меня спасти уже нельзя...
Клавдия сказала, что днём приходили, меня спрашивали, я поэтому вышла тебя встречать. Неизвестно, кто приходил, и не подложили-ли что-то для прослушки...
Семён стоял, бессильно опустив руки.
- Мы все пешки в какой-то дьявольской игре.
Они стояли, обняв друг-друга и плакали...
Розалию забрали утром, при выходе из дома.
******
Галина звонила домой родителям в приподнятом настроении.
Вчера она самостоятельно успешно провела сложную операцию, и её очень хвалили на оперативке. Сегодня ей утвердили тему будущей диссертации, а час назад они с Сашей подали заявление в ЗАГС.
Саша побежал за цветами, она на Междугородку - звонить родителям, а потом они идут на обед к Сашиной маме. Сашина мама - Нина Васильевна, заведует в их больнице отделением родовспоможения, куда и распределилась полтора года тому назад, Галина.
- Мама, вам с папой нужно бы уже познакомиться с родителями Саши.
- Ну пусть приезжают тебя сватать,- засмеялась Галина мама.
- Сашин папа вернётся из командировки, и приедут, и я приеду, поможем тебе с Иришкой гостей встречать.
- Приезжай доченька, мы уже все по тебе соскучились.
Нина Васильевна встретила Галину очень тепло. Ей нравилась эта красивая молодая девушка, которая была, как и она сама, увлечена своей профессией. А как искусно она провела операцию! Какая умница!
И хорошо, что Саша выбрал в жёны именно её. Они коллеги, у них много общего, Галина хорошо воспитана, приветливая, доброжелательная, не избалованная.
Обед прошёл в тёплой семейной обстановке. Галина и Саша помогли Нине Васильевне убрать со стола посуду, и не успела та оглянуться, как Галина её уже перемыла.
Галочка, у меня к тебе есть серьёзный разговор,- взяв Галину за руку, сказала Нина Васильевна. Я вижу, что из тебя получится отличный специалист, ты интересуешься всеми новинками по нашей специализации. Мне нравится выбранная тобой тема диссертации. Она и подсказала мне, что я должна сделать тебе необычный подарок. Но сначала, я кое - что тебе расскажу.
...Это было более двадцати лет тому назад. Тогда наша семья жила в другом городе, и я работала в отделении патологии беременности. Мы были тесно связаны с родильным отделением, ведущим специалистом в котором была замечательная женщина! Она была врач от Бога. Ей приходилось и роды принимать, и оперировать, и всё всегда было на "отлично".
Мы были дружны, и по работе, и вне её, так как и по возрасту подходили друг-другу, и по интересам, и жили в соседних домах. Лучшего друга и советчика у меня не было...
Слушай дальше...
Слышала ли ты о так называемом "деле врачей"?
- Конечно. Я читала об этом. Это ужасно, хорошо, что правда восторжествовала, и их реабилитировали.
- Так вот, в это страшное время в родильном отделении умер ребёнок.
Его нельзя было спасти, он уже родился мёртвым, но мою подругу обвинили в предумышленном вредительстве.
Она была умной женщиной, и понимала, чем ей грозит этот несчастный случай. Поэтому, идя с работы, буквально на несколько минут, заскочила ко мне, и вручила свою авторскую монографию, куда, записывала все результаты проводимых ею исследований о причинах патологий во время беременности и родов.
- Ниночка, сохрани это, прошу тебя. Я вряд ли вернусь, но может быть кому-то, кто захочет глубоко изучить эту тему, пригодятся мои наблюдения, исследования и выводы. Отдай тому, кто этим всерьёз займётся.
- Вот я и решила, что пришло время выполнить просьбу покойной подруги. Ты этого достойна!
- Она не вернулась?
- Рассказывали, что её посадили к уголовницам, чтобы сговорчивее была на допросах, а те, узнав в чём её обвиняют, ночью задушили подушками. Расправились с "детоубийцей".
- Какой ужас!- Галина закрыла лицо руками, - даже рассказы об этом страшно слушать, а пережить...Светлая ей Память!
- Светлая Память! - Нина Васильевна смахнула набежавшую слезу,-сейчас принесу тебе монографию.
Галина углубилась в чтение.
- Нина Васильевна, да это же всё по моей теме! Вы себе представить не можете, какой Вы сделали мне подарок! Это же готовая диссертация, вся практическая часть!
- Считай, что это подарок от моей подруги. Я лишь выполнила её волю.
Сейчас покажу тебе фотографию. Я с ней и с детьми, она с дочкой, а я с Сашей. Это было Седьмого ноября, мы купили детям по флажку и шарику, а фотограф нас сфотографировал. Она, бедная, так и не увидела это фото. Я забрала его из ателье уже позже, и спрятала...
- Ой, покажите, конечно, очень интересно посмотреть на эту женщину! И Сашу маленького увидеть!- Галя улыбнулась.
Нина Васильевна принесла и вложила Галине в руку фотографию...
- Дети впереди, а мы за ними, узнаёшь меня?
Галина всматривалась в фотографию, потом закрыла глаза и побледнела...
- Галя, Галочка, что с тобой???
Сглотнув подкатывающий к горлу комок слёз, Галина показала пальцем на улыбающуюся девочку: "Это я, Нина Васильевна, это я на фотографии..."
Нина Васильевна схватилась за сердце. А Галина продолжала:
- Я маму никогда не видела, теперь я понимаю, почему все фотографии уничтожили. Мне просто рассказали, когда я закончила институт с отличием, что мама бы мной гордилась, она тоже была врачом, но умерла от болезни, когда я была совсем крошкой. Не хотели, чтобы я тяжело переживала из-за её страшной судьбы...
******
Галина блестяще защитила диссертацию.
В списке использованной литературы была указана монография её мамы - Гринберг Розалии Яковлевны
Мария Волынская
Сообщение отредактировал Сонечка - Понедельник, 14.12.2020, 11:55 |
| |
| |
| KBК | Дата: Вторник, 29.12.2020, 02:56 | Сообщение # 521 |
 верный друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Статус: Offline
| Автограф
Доктор Михаэль Кричевский проснулся от невыносимой тишины необычного утра.
Обычное утро начиналось ещё затемно, деликатным, но остреньким звуковым всплеском отключения автомобильной сигнализации и последующими характерными шумами: вот простучали шаги, вот хлопнула дверца, вот взвыл двигатель – сначала громко, недовольно, с обидой на раннюю побудку, а затем – тише, постепенно успокаиваясь и переходя на умеренный рокот, затухающий по мере удаления машины.
Причём, вовсе необязательно каждое утро первой отъезжала одна и та же машина – просто можно было не сомневаться, что кому-нибудь из близких соседей, а то и нескольким сразу непременно приспичит стартовать в наступающий день не позже пяти с минутами, когда это ещё и не день вовсе.
Кто-то норовил проскочить дальнюю дорогу до появления пробок, кого-то выдергивал из постели тревожный звонок, кому-то диктовала ранний выход медицинская, армейская, сердечная, туристская необходимость.
А поскольку здоровье, война, любовь и туризм редко руководствуются правилами трудового законодательства, то не были исключением и дни недельного отдыха, включая праздники и субботы.
Сигнализация – шаги – дверца – мотор… Эта привычная цепочка шумов ничуть не мешала Михаэлю, но, напротив, ещё глубже утягивала его в омут сна, к преимущественно неясным образам и лицам, из которых главными – а может, и не главными, а просто последними по очерёдности – были образ трамвая и лицо контролёра. Контролёр шёл из дальнего конца вагона; он надвигался явно быстрее остановки, на близость которой Михаэль опрометчиво понадеялся, не купив билета. Трамвай шпарил по очень длинному мосту – то ли через Неву, то ли через Рейн, пассажиры смотрели осуждающе… но тут за окном включались проснувшиеся птицы, напоминая, что это всего лишь сон, и нет на самом деле ни трамвая, ни контролёра, ни Рейна – вернее, есть, но где-то в другом месте, и не с ним, доктором Кричевским, а у него всё как раз тип-топ, проезд оплачен, постель уютна, подушка мягка, спи дальше, милок, не парься, как говорят нынче.
– Чуй-йюсь! – высвистывали птицы. – Чуй-йю тёт-тю Вит-тю!
Мысленно поблагодарив незнакомую, но чуйкую тётю Витю, Михаэль поворачивался на другой бок и засыпал снова, уже не реагируя ни на проезжие легковушки, ни на птичью ораторию, ни на возню кошек в шуршащей сухой листве под живой изгородью.
Следующими, куда более серьёзными звуковыми вехами были раздражающий скрежет мусоровоза, неопрятное громыхание помойных баков и трубный слоновий рев проносящегося мимо рейсового автобуса. Затем в расписании значился собачий концерт, которым хвостатые жители улицы отмечали выход на прогулку любого своего сородича с хозяином на поводке. Одновременный заливистый лай дюжины окрестных сучек и псов мог бы поднять с кровати кого угодно, но только не Михаэля – ему этот хор, напротив, сигнализировал о чудесной возможности вздремнуть ещё часик-полтора.
Окончательно он просыпался лишь от голосов – родителей, торопящих детей по дороге в школу, соседок, зацепившихся языками аккурат перед его калиткой, арабских рабочих, гортанно перекрикивающихся друг с другом чёрт знает о чём.
И вот тут уже надо было вставать и отправляться на утреннюю прогулку – круговую, в обход холма – с разной, тщательно отмеренной степенью сердечности раскланиваясь по дороге с каждым встречным-поперечным.
Так обстояло дело обычно… – обычно, но только не в это необычное утро, когда мир то ли онемел, то ли оглох под периной пронзительной тишины, поглотившей все знакомые предрассветные звуки. Ни стартующих машин, ни автобуса, ни голосов, ни грохота мусорных баков… Помалкивали даже птицы и собаки – похоже, их тоже смутило внезапно нарушенное повседневное расписание, и теперь они недоумённо переминались на ветках и во дворах, как артисты за кулисами, ждущие безнадежно запаздывающего сигнала выскочить на сцену.
«Судный день, – вспомнил Михаэль. – Затихарились, голубчики, прижали ушки…»
Он оделся и вышел на улицу. Там, как и следовало ожидать, не было ни души, если не считать сиротливо приткнувшихся к тротуару автомобилей, на чьих унылых, поблескивающих никелем мордах читалось покорное – вплоть до желания немедленно испариться – сознание собственной неуместности. Из-под машин выглядывали кошки, донельзя удивленные всеобщей забастовкой. Небо хмурилось – скорее недоумённо, чем угрожающе.
«А и верно, – вспомнил Михаэль. – Вчера в новостях, перед тем как отключиться, обещали дождик. Но похоже, дождик тоже затихарился…»
В конце улицы обозначилось движение, и доктор Кричевский облегченно вздохнул: значит, на планете остался ещё кто-то кроме него. Навстречу неторопливой, исполненной значения походкой двигался человек, отдаленно напоминающий Вагнера, ведающего в посёлке вопросами безопасности. Вагнера знали здесь все: его широкополая шляпа постоянно мелькала в поле зрения – в окне патрульного джипа, возле школы, у ворот, на улицах и на грунтовках, змеящихся по склонам окрестных вади. Под шляпой располагались солнцезащитные очки, седые усы, щетина, клетчатая застиранная ковбойка, безрукавка с множеством набитых полезными аксессуарами карманов, джинсы и массивные армейские ботинки. Был ещё поясной ремень, который не столько поддерживал штаны, сколько оттягивал их вниз из-за прицепленных тяжестей: кобуры со здоровенным пистолетом, ножен со здоровенным тесаком, вечно простуженной – то есть далеко не здоровой рацией, и частоколом всевозможных подсумков, футляров и футлярчиков с телефонами, запасными обоймами и другими важнейшими предметами непонятного назначения.
Таким был бравый еврейский ковбой равшац Вагнер – но мужчина, с которым волею судеб Судного дня пересёкся жизненный путь доктора Кричевского, походил на равшаца Вагнера разве что только усами.
Он был облачён в ослепительно белую рубашку, тщательно отглаженные белые брюки и белые туфли с белыми подошвами. На белой седой голове белела кипа, скромно расшитая золотой ниткой. Под мышкой равшац держал белую, также расшитую золотом сумочку с белым молитвенным покрывалом и другими принадлежностями. От прежнего ковбойского облика, шляпы, джинсов, жилетки и многофункционального пояса остался лишь ограниченно допущенный к обозрению загар, которого этот новый незнакомый Вагнер явно стеснялся и, видимо, охотно сменил бы на меловую – в тон всему прочему – бледность.
– Хорошей тебе подписи, доктор! – вполголоса проговорил он и белозубо улыбнулся.
– И тебе того же, – отвечал Михаэль, глядя на него во все глаза. – Никогда тебя таким не видел.
Вагнер смущенно хмыкнул.
– Это я так в Судный день одеваюсь. Если не на дежурстве.
– А такое бывает – что ты не на дежурстве? – усомнился Кричевский.
– Как видишь… – равшац посмотрел вверх и секунду-другую шевелил губами. – Последний раз был четыре года назад. А до этого…
Он снова занялся сложными мысленными вычислениями.
– Да ладно, не вспоминай, – сказал Михаэль. – Красивый костюм.
Вагнер благодарно кивнул.
– Спасибо. Так-то он всё время в шкафу. Я, знаешь, не больно-то религиозен. В синагоге максимум дважды в году бываю.
– Если не на дежурстве, – напомнил Михаэль.
– Ага, если не на дежурстве. Но Судный день – особ статья. В Судный день надо. Господин мира, да благословится Имя Его, ставит подпись под приговором на весь следующий год. Что с тобой станется, будешь ли здоров, будет ли удача – такие вот вещи. Ты ведь в курсе, правда?
– Конечно. Не первый год в Стране.
– Ну вот, – Вагнер вздохнул. – Как по такому случаю не разоденешься… В такой день надо уважение показать. Это как на судебное заседание прийти. В зал суда ведь не заявишься в шортах и сандалиях на босу ногу, правда?
Он всмотрелся в носок безукоризненно белой туфли и, наклонившись, смахнул приставшие туда непочтительные пылинки. Попутно Вагнер, конечно же, зацепился взглядом за рваные шлепанцы Михаэля, но ничем не выдал своего отношения к затрапезному виду соседа.
– Правда, – признал доктор Кричевский. – Я бы и сам иначе оделся, но нет такой привычки. Прошлое воспитание, ничего не поделаешь. Старого пса новым трюкам не выучить. Ты уж прости, что я тебе такой навстречу попался…
– Ты что? – отшатнулся Вагнер. – Ты что, решил, будто я тебя осуждаю? Да я и не думал… я это о себе… честно, доктор! Честно! Прости!
Лицо его побагровело, ещё больше нарушая торжественную белизну общего облика.
– Да ничего я не решил, – испуганно проговорил Михаэль. – Все в порядке, Вагнер. Я тоже только о себе...
– Прости, а? – с настойчивой мольбой в голосе повторил Вагнер. – Дурак я, дурак… В такой день… вот же угораздило… Целую неделю прощения выпрашивал у всех знакомых и незнакомых, и вот, в последнюю минуту, на тебе! Дурак, одно слово дурак!
Михаэль осторожно взял соседа за белоснежный локоть.
– Слушай меня внимательно, Вагнер, – произнёс он как можно твёрже. – Я прощаю тебе все настоящие и мнимые обиды, которые ты когда-либо мне нанёс или даже только собирался нанести, осознанно или нет. Прощаю. Прощаю перед лицом самого высокого суда.
Все слышали?
Для верности доктор Кричевский зыркнул по сторонам, и, за неимением иного выбора, мысленно призвал в свидетели рыжую кошку, внимательно следившую за ними из-под соседнего форда. Кошка сморгнула – видимо, в знак согласия. Вагнер облегчённо вздохнул.
– Спасибо, доктор. Знаешь, я, пожалуй, пойду, пока снова чего не сморозил… – он с чувством пожал Михаэлю руку. – Хорошей тебе подписи!
– И тебе, брат.
Михаэль изумлённо смотрел, как равшац быстрыми шагами – как бы снова чего не сморозить – поспешает в сторону синагоги. Это ж надо, чтобы такой бесстрашный ковбой... – и вдруг какой-то приговор, какая-то подпись…
Самое забавное, что назавтра, спрятав в шкаф эту белую форму, он опять превратится в прежнего Вагнера – уверенного, ловкого, с цепким взглядом прищуренных стальных глаз, подчёркнуто экономного в разговорах – любых разговорах, не говоря уже об извинениях.
Доктор Кричевский знал Вагнера без малого полтора десятка лет и ещё ни разу не слышал, чтобы тот выпрашивал у кого-то прощения. Да, собственно, и повода такого не было: как-то так получалось, что равшац всё время оказывался прав…
Тем временем улица вдруг ожила; не ожидавшая такого подвоха тишина сначала по мышиному метнулась от забора к забору, а затем, совсем уже обезумев, рванула под машины, прямиком в цепкие кошачьи когти. По проезжей части прямо на Михаэля мчалась ватага детворы на велосипедах и грохочущих самокатах, именуемых здесь жалобным словом «коркинет», но навороченных настолько, что при одном взгляде на них становилось ясно: у родителей ребёнка есть не только корка, но и буханка, а то и целый хлебозавод.
Доктор едва успел отскочить в сторонку, на тротуар, хотя, честно говоря, там тоже было небезопасно – в Судный день улица безраздельно принадлежала детям.
От греха подальше Михаэль свернул в парк и, пройдя по аллее, сел на скамейку. Ему вдруг вспомнился кондуктор из предрассветного сна. После таких многократно повторяющихся переживаний было бы разумно сразу купить билет и тем самым избавить себя от кошмара. Странно, что он, тем не менее, раз за разом пытается проехать зайцем. Ну сколько может стоить этот ничтожный билетик? Гроши ведь, гроши… Тогда почему? Возможно, потому, что он, даже заплатив, при виде контролера непременно забудет, в какой карман положил этот малюсенький клочок бумаги с шестизначным номером, и тогда будет ещё хуже. Или не будет?..
Дети, конечно же, добрались и сюда – по аллее, приближаясь к Михаэлю, катил на коркинете мальчишка лет семи-восьми. Почему-то он был совсем один, без компании: наверно, отстал от друзей и теперь, догоняя, срезал через парк. Взгляд Михаэля упал на канавку, неизвестно зачем прокопанную поперек дорожки. Видит ли её паренек?
– Эй, пацан, осторожней! – крикнул он, но мальчик, не успев толком затормозить, уже ткнулся передним колесом в ямку.
Хвост самоката задрался вверх, и мальчишка, слетев с площадки, кубарем влетел прямо в расставленные руки доктора Кричевского.
– Смотреть надо, куда едешь, гонщик, – назидательно проговорил Михаэль. – Ты как, в порядке? Не сильно ушибся?
Парень молча кивнул и, потирая коленку, сел на скамью рядом с Кричевским.
– Что-то я тебя не припомню, – сказал Михаэль. – Ты вообще, отсюда?
Мальчик мельком взглянул на него и сразу отвел взгляд.
– А вы что, всех тут помните?
– Детей – всех, – улыбнулся Михаэль. – Я здесь один детский врач на всю округу. Так что приходится волей-неволей.
– Волей-неволей… – повторил пацанчик и снова потёр коленку. – А зачем неволей-то?
– Да ты, я смотрю, философ, – рассмеялся доктор. – Фамилию-то скажешь? Нет? Ну, не хочешь – не надо. Всё равно когда-нибудь ко мне придёшь. Дети, брат, болеют, чтоб ты был здоров до ста двадцати…
– У меня нет фамилии, – снова искоса посмотрев на Кричевского, проговорил мальчик. – Только имя.
– Ну ладно, давай тогда только имя. Познакомимся, уж если свела нас вместе эта канава. Я – доктор Михаэль.
– А я Бог, – просто ответил паренёк, сунув в протянутую ладонь Михаэля свою маленькую узкую ладошку.
– К-кто? – с запинкой переспросил Кричевский.
– Бог.
Михаэль рассмеялся.
– Бог? Не обижайся, но я представлял тебя несколько иначе.
– А я такой.
Мальчишка ещё раз потёр коленку и на пробу поболтал ногами. Как видно, результат испытаний оказался вполне удовлетворительным, потому что парень соскочил со скамьи и пошёл вытаскивать из куста коркинет.
«А и в самом деле, почему бы Ему не быть именно таким? – подумал доктор Кричевский. – Разве бородатый дедуля в облаках, которого рисуют на куполах церквей, больше соответствует истине? И то, и другое – не более чем наше человеческое представление о том, что на самом деле не имеет ни вида, ни образа, ни качеств.
Ребёнок? Так ведь и наши мысли о Нём – ребячество чистейшей воды. Взять хоть этот наивный маскарад Вагнера… эти белые туфли на белой подошве… эти осиротевшие автомобили… эта диета… эти велосипедики и самокаты… Детство, натуральное детство. Как будто Ему есть дело до наших глупых трамвайных билетиков…»
– Так что, вам подписать?
– А? Что ты сказал?
Михаэль поднял взгляд на мальчика, который нетерпеливо переминался перед ним, поставив правую ногу на площадку коркинета.
– Подписать? – повторил он. – Вы ведь наверно просили хорошую подпись.
– Точно, просил, – после короткой паузы отвечал Михаэль. – Только у меня нет…
– Можно прямо на руке, – перебил его парень, доставая фломастер из кармана коротких штанишек. – Давайте.
Доктор Кричевский протянул руку. Мальчишка закусил нижнюю губу, засопел и старательно вывел на ладони Михаэля шесть корявых ивритских букв: «אלוהים».
– Готово! До свидания, доктор Михаэль!
Он сунул фломастер в карман и, сильно оттолкнувшись ногой в пыльном сандалике, скрылся за поворотом аллеи.
«Ну и что мне теперь делать с этим автографом? – покачал головой Кричевский. – Вот будет смеху, если окажется, что надпись не смывается…»
Придя домой, он первым делом попробовал… – нет, смылось за милую душу. Ещ одна детская иллюзия… – а ведь взрослый, казалось бы, человек… Стыдно, доктор Кричевский, стыдно. Михаэль уже садился завтракать, когда за окном громыхнуло. Это промчался мимо Господь Бог на своем коркинете.
АЛЕКС ТАРН, сентябрь 2017, Бейт-Арье
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Вторник, 12.01.2021, 13:45 | Сообщение # 522 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1455
Статус: Offline
| Собака Нуреева
Рассказ
Когда Рудольф Нуреев, всемирно известный танцор, а впоследствии хореограф, умер в 1993 году в Париже, после него, кроме антиквариата, осталась собака по имени Обломов.
Это был, как легко догадаются начитанные люди по его, разумеется, не без умысла данному имени, крайне ленивый пёс. Он таскал на своих довольно коротких и очень широких лапах тяжёлое тело грязно-белой окраски с пятнами бежевого и облезлого чёрного цвета, глаза его слезились, крепкие когти были слишком длинными и царапали паркетный пол, уши печально висели вдоль грустной морды.
Насколько элегантен, гибок и тренирован был Рудольф Нуреев даже в последние годы и в начале своей болезни, настолько неэлегантен, тяжёл и неповоротлив был Обломов, его пёс. Известно, что особенно красивые и интересные люди инстинктивно окружают себя невзрачными друзьями, чтобы не повредить собственному блеску.
Так, видимо, и Нуреев, чемпион мира по невесомости, выбрал именно эту страдающую одышкой, неуклюжую собаку, которая преданно шаркала рядом, в то время как её хозяин летал, танцевал и скользил по жизни.
Обломов покидал квартиру своего хозяина с дорогими, мягкими коврами весьма неохотно, тем не менее, он сопровождал Нуреева повсюду, и прежде всего на ежедневные занятия в балетном зале с огромными зеркалами, гладким полом и bаrrе. Рядом с фортепьяно лежало мягкое одеяло, и когда месье Валентин играл, а Рудольф Нуреев гнулся и вращался у станка, либо разучивал новые танцевальные движения со своими учениками или с кордебалетом Парижской оперы, Обломов дремал на своей подстилке возле фортепьяно, поглядывая сквозь почти закрытые глаза на репетиции, и иногда глубоко вздыхал.
Он разбирался, между тем, неплохо в танцах, хотя и не совсем понимал, зачем живые существа подвергают себя мучениям, чтобы оторваться обеими ногами от пола, лететь в воздухе и при этом ещё грациозно вытягивать вверх руки, ailes de pigeon, en avant et en arrière, как крылья голубя, вперёд и назад. Зачем всё это?
Пол слегка дрожал, Обломов следил за ритмом фортепьяно и танцующих ног и начинал довольно бурчать себе под нос. Un, deux, trois, allez!
Нуреев прыгнул вверх, прямые ноги тесно прижаты одна к другой, руки вытянуты, assemblé soutenu, партнёрша летела ему навстречу в grande jetée tournant, правая нога на пальцах, левая вытянута назад на 90 градусов, руки подобны крыльям, и Обломов чувствовал своим нутром под трёхцветной шерстью, что такое страдание, романтика и красота. Это делало его счастливым.
По ночам ему снились иногда восемь балерин в пачках абрикосового цвета, которые танцевали рas еmboités, серию сложных, чередующихся шагов, с переходом всякий раз в пятую позицию.
О да, Обломов знал толк в этом, он уже многое видел и мог вполне отличить епtгесhat quatre от entrechat six, когда выпрямленные ноги перекрещиваются во время прыжка в воздухе не два, а три раза. Всё это нравилось ему необычайно, но больше всего он любил наблюдать за Нуреевым, даже когда его прыжки были уже не так высоки, как в былые годы.
Обломов, который своё равновесие достигал только благодаря крайней медлительности, мог без конца смотреть на мощные прыжки Нуреева, невесомость которого казалась ему чудом, а когда его хозяин принимал позицию есагté de face, повернувшись к Обломову, сидящему в углу возле пианино, тогда сердце его трепетало от любви и глаза увлажнялись.
Когда Рудольф Нуреев стал совсем больным и слабым, собака не отходила от его постели. Друзья кормили Обломова, поскольку, несмотря на горе, аппетит его не уменьшился, но выходил он из дома только по крайней нужде. А когда Нуреев умер, Обломова нашли безутешным, с лапами, прижатыми к воспалённым глазам, словно он плакал, лёжа на восточном ковре возле кровати с множеством шёлковых подушек.
Нуреев, конечно, попрощался со своим любимцем, прежде чем его положили в Американский госпиталь, где он умер в январе 1993 года.
Он, разумеется, позаботился о собаке и нашёл человека, который мог бы после его смерти ухаживать за животным. Этим человеком была Ольга Пирожкова, балерина, которая никогда не исполняла главные партии, но всю жизнь была предана балету и танцевала сначала в Ленинграде, а затем в Парижской опере и поклонялась Нурееву, восхищалась им, а когда он был болен, варила ему каждый день крепкие, наваристые супы и приносила в серебристо-голубом термосе.
Она кормила его с чайной ложки говяжьим или куриным бульоном, мясо доставалось Обломову, а когда обессиленный Нуреев засыпал, Пирожкова закутывалась в большой чёрный бархатный шарф с длинными кистями и в тёмно-красное шерстяное пальто и гуляла вместе с Обломовым вдоль засаженной каштанами аллеи, держа его на поводке, потому что он вновь стремился к дому хозяина, на свой мягкий коврик..
Итак, умирающий Нуреев умолял Пирожкову позаботиться о собаке, а в своём завещании написал, что старинный сервант с ценными бокалами в стиле Бидермайер, а также два узбекских, очень дорогих ковра, собрание редких пластинок и большая сумма денег должны быть переданы в собственность Пирожковой, с ответным обязательством с любовью ухаживать за Обломовым до его последнего вздоха.
Пирожкова приняла наследство с благодарностью. Она добилась, чтобы Обломову разрешено было присутствовать на траурной церемонии, и он лежал смирно, иногда тяжело вздыхая, у её ног и никому не мешал. Напротив, многие со всего мира приехавшие танцоры, режиссёры, дирижёры, артисты, хореографы и журналисты, почитатели, поклонники и друзья Нуреева гладили Обломова по большой голове и говорили тихо: «Ах ты, бедный пёс!» или «Ну, теперь ты совсем один».
Но Обломов был отнюдь не бедной собакой и был совсем не одинок, ведь у него была Пирожкова, в квартиру которой возле Булонского леса он переселился.
Его отороченные красным бархатом одеяла, чёрная таиландская плетёная кроватка, мягкий ошейник из телячьей кожи, его миски из лучшего севрского фарфора с ярким цветочным орнаментом Фальконе — всё это было взято с собой и в его глубокой печали напоминало ему о родном доме.
Ольга Пирожкова любила Обломова так же, как любила Нуреева. Она заботливо ухаживала за ним, разрешала ему спать рядом со своей кроватью, а когда проигрывала замечательные старые пластинки с дивертисментами Рамо, Глюка или Гуно, под которые Рудольф Нуреев так часто танцевал, то у обоих появлялись слёзы на глазах.
Иногда Ольга ходила в репетиционный зал оперы заниматься с ученицами, и тогда Обломов вновь лежал у фортепьяно возле месье Валентина, смотрел и слушал, чувствовал, как дрожит пол, и иногда невыразимая тоска проникала в его грудь и вырывалась из него коротким, пронзительным воем. Тогда месье Валентин останавливался, убирал свои длинные белые руки с клавишей, склонялся, чесал Обломова за ушами и говорил: “Аh, mon pauvre petit chien, il n’est pas disparu, il est toujours entre nous”, — Ах, ты бедняга, он ведь не исчез совсем, он всегда здесь, с нами, — и Обломов чувствовал, что, наверно, это в самом деле так.
Пирожкова жила уединённо. Ей было за 60, её лучшие годы были давно позади, она и прежде не жила никогда так бурно, не устраивала роскошных празднеств, не давала банкетов, не угощала щедро друзей, как было принято у Рудольфа Нуреева.
Её жизнь была скромной, подчинена дисциплине, словно простой ритуал, и Обломов с течением лет тоже чувствовал себя здесь, если быть откровенным, лучше, чем тогда, во время шумных, диких пиршеств в квартире Нуреева, когда молодые красивые мужчины наливали ему в миску шампанское и кормили его бутербродами с икрой.
Ему хотелось покоя, и он обрёл его у Пирожковой, которая в постель ложилась вовремя. Тогда ночи стали казаться ему порой слишком длинными, и он пробирался в половине третьего через слегка приоткрытую дверь на небольшой балкон и смотрел сквозь решётку веранды вниз на тихую улицу возле Булонского леса.
Однажды ночью Обломов, к собственному удивлению, поймал себя на том, что он неожиданно изящно скрестил передние лапы и отважился на невысокий прыжок — почти гévoltade, крайне сложную комбинацию ногами толчковой и работающей.
Он сильно сопел. Медленно поднял он заднюю часть тела и встал на носки задних лап — ему удалось почти идеальный геlevé, и он добавил ещё одно па, совсем маленький, едва заметный frаррé, лёгкий удар пятками, работающей ногой по опорной. Тогда он замер в удивлении и прислушался к себе. Что это было?
Неужели он сможет танцевать, даже если захочет, в его возрасте и при его весе? Была ли причиной тому тоска по хозяину, воспоминания, или же у него были свои эстетические потребности? Он не знал этого. Ясно было одно - его тянет попробовать то, что он так часто видел наяву и во сне. Jeté! Рlié!
Обломов проделал то, что он тысячу раз наблюдал, как делают танцоры - короткую серию demi pliés, чтобы расслабить мышцы и держать равновесие, и потом рискнул встать в первую позицию: ступни повернуты наружу, пятки вместе так, что образовалась прямая линия. Обломову удалась она прекрасно.
Вторая позиция — обе ступни по прямой линии с расстоянием в один шаг между пятками — получилась без всякого труда.
Его сердце билось, он был очень взволнован и жалел, что раньше не испробовал какие-либо танцевальные па. Но он уже слегка запыхался и решил не перенапрягаться и другие позиции попробовать следующей ночью.
Обломов постоял, глубоко вдыхая ароматный ночной воздух, и отправился опять на свою подстилку, свалился на неё и погрузился в сон, в котором чешские девушки исполняли эротические танцы под музыку Дворжака.
На следующий день Ольга Пирожкова была удивлена тем, что пёс казался усталым и в то же время нервным.
Он тяжело пыхтел, поднимаясь по лестнице, не хотел гулять, но беспокойно сновал взад и вперёд по квартире, и ей казалось, что он ставил лапы иначе — не так широко их расставляя, как обычно, а изящнее, будто это грузное животное пыталось ступать легче, и Ольга была очень обеспокоена и вместе с тем растрогана. Она решила не спускать с Обломова глаз.
В ту ночь он вновь поднялся со своей подстилки и пошёл на балкон.
Пирожкова, которая обыкновенно спала чутко, проснулась и увидела, что Обломов прокрался на балкон. Как же она была удивлена, когда пёс неожиданно прижал голову к решётке для поддержания равновесия, поставил обе передние лапы в третью позицию — ступни параллельно, носки смотрят в противоположные стороны, пятки прижаты друг к другу.
Конечно, это могло быть случайностью — причудливая поза, принятая невзначай, но четвёртая позиция совпадала тоже, а затем сложная пятая, из которой собака вдруг с совершенно неожиданной лёгкостью прыгнула ввысь и попыталась сделать аssemblé simple...
Потом Обломов остановился, и Ольга Пирожкова, затаив дыхание, слышала его тяжёлое сопение.
Он долго смотрел вниз на улицу, потом попытался встать на задние лапы, держа передние en haut над головой грациозно, как только мог, но выдержал недолго и быстро встал снова на все четыре лапы.
Для Пирожковой не оставалось никаких сомнений: собака Нуреева тайно разучивает танцевальные па, она едва могла в это поверить. Как же ей себя вести? Похвалить животное, показать, что она знает его тайну, или же тихо наслаждаться зрелищем и не подавать виду, что она о чём-то догадывается?
Ольга выбрала пока последнее, но долго не могла заснуть от волнения. Она не могла сдержаться и будто невзначай протянула с постели руку и погладила Обломова по голове нежно, поощрительно, когда тяжело дышащий пёс давно уже лежал на своём одеяле перед её постелью и видел во сне, как одетые в красивые национальные костюмы мужчины стремительно танцевали украинский гопак в 2/4 такта...
Пирожкова всё чаще наблюдала, как Обломов пытается проделать изящные танцевальные движения. Он делал успехи. Она охотно иногда вмешалась бы и немного помогла ему, исправила, научила бы и поддержала, но остерегалась делать это, опасаясь, что пёс испугается и не будет вообще танцевать, если будет чувствовать, что он раскрыт и за ним наблюдают.
Ей, конечно же, не терпелось поделиться, рассказать о своём неслыханном открытии: Собака Нуреева танцует! Какая сенсация!
Она подумывала даже продать фотографии танцующего Обломова во все большие газеты, да и рассказ для первых страниц журналов по балету был бы весьма ценен. И она могла запросить высокую плату - слишком большим счёт Пирожковой не был, и деньги Нуреева тоже постепенно таяли. Все свои доходы она обязательно делила с Обломовым, купила ему новое кашемировое одеяло, варила для него хорошее мясо, давала на гарнир рис басмати, а не обычный американский. И всё-таки Ольга не стала говорить об этом ни с кем...
Однако она пригласила на ужин журналистку, с которой была дружна, и попросила её взять с собой фотоаппарат — возможно будет сюрприз. Журналистка пришла, они ели и пили, слушали Мийо „L’homme et son désir“ и провели вдвоём чудесный вечер. Над Булонским лесом светила луна, а на балконе лежал Обломов, прижав морду к решётке, и смотрел на оживлённую по-вечернему улицу или же дремал.
«А что же с сюрпризом?» - спросила Мадлен Корбо перед уходом. Ольга Пирожкова подняла, извиняясь, свои красивые руки, улыбнулась и сказала: «К сожалению, он не получился. Может быть, в другой раз, но заранее я ничего не могу тебе сказать».
Женщины поцеловались на прощанье, и пока Ольга Пирожкова в своей маленькой кухне мыла и убирала рюмки, тарелки и пустую бутылку, она всё время поглядывала на Обломова, который лежал на балконе и дремал. Был тёплый летний вечер.
Ольга вывела собаку ещё раз на улицу, потом они оба легли спать.
В эту ночь ничего не произошло, а на следующую возле подушки Ольги Пирожковой лежал маленький фотоаппарат. Если Обломов будет вновь танцевать, она попытается его сфотографировать. И действительно, около четырёх часов, когда начало светать и защебетали ранние птицы, крупный уродливый пёс стоял у балконной решётки и разучивал небольшую аrаbеsquе с вытянутой далеко назад левой лапой. Ольга Пирожкова взяла осторожно фотоаппарат и поднесла его к лицу. В этот момент Обломов повернулся и посмотрел на неё с таким печальным выражением лица, что она почувствовала, будто предала его, как Орфей свою Эвридику, когда он освободил её из подземного мира, а потом потерял навсегда из-за своего любопытства.
Пёс стоял и смотрел на неё, она опустила фотоаппарат, прошептала “Рагdon, mon, cher!”, и Обломов, тяжело ступая, прошёл в комнату и лёг далеко от её кровати, на маленький узбекский коврик под секретером.
В эту ночь оба спали плохо. Пирожковой снился полный провал индийской танцевальной группы, которая на самом деле две недели спустя имела большой успех и принесла Пирожковой кое-какие деньги, а Обломов видел во сне мужчин с кинжалами, которые в диком 6/8 темпе танцевали дагестанскую лезгинку.
В следующие дни стареющая балерина и собака всемирно известного умершего танцора старательно обходили друг друга.. Она не знала, надо ли ей заговаривать о ночном происшествии, он не знал, действительно ли она его подстерегла и наблюдала за ним. Несколько дней он не танцевал совсем или же только когда был твёрдо уверен, что Ольга Пирожкова глубоко спит, он слышал это по её дыханию. Тогда он разучивал трудные прыжки и прелестные маленькие пируэты, но приземлялся всегда неловко на все четыре лапы, а не на две или даже на одну.
17 марта 1998 года Рудольфу Хаметовичу Нурееву исполнилось бы 60 лет. Обломов уже пять лет жил у Ольги Пирожковой и чувствовал себя порой старым и усталым. Но иногда он всё ещё разучивал танцевальные па, и у него было ощущение, что именно поэтому его суставы оставались крепкими, а сердце молодым.
В тот весенний день, а было уже тепло и цвели форзиции, Пирожкова и Обломов незаметно пробирались на русское кладбище Сен-Женевьев де Буа к могиле Нуреева, куда собакам вход был, конечно, запрещён. Она принесла большой букет белых роз и положила его на могилу и долго стояла молча, со сложенными руками, а Обломов лежал рядом, опустив тяжёлую голову на лапы. Он смотрел на могилу и был в задумчивости.
Тогда Пирожкова наклонилась к нему, вокруг не было видно ни души. Она погладила его ласково и прошептала: «Обломов, мой дорогой — один раз. Только для него.»
Нос Обломова задрожал, его бока заколыхались. Он понял, что она ждала от него. Он должен раскрыть свою тайну, поделиться с ней, один раз станцевать для Нуреева, своего бывшего хозяина, который лежал здесь и которого они оба любили.
Пёс медленно поднялся, отряхнулся, застыл неподвижно, потом поднял голову и посмотрел на Ольгу Пирожкову, которая ему ласково улыбалась. Она не предаст его, он знал это.
Тогда Обломов — тяжёлый двенадцатилетний пёс знаменитого танцора Рудольфа Нуреева, отошёл немного назад, взял небольшой разбег и сделал прекрасный саbriole с сомкнутыми задними лапами и вытянутыми вверх передними, полёт над могилой с безупречным приземлением на дрожащую опорную ногу. Он приземлился посреди белых роз.
Пирожкова смотрела на него и в глазах её были слёзы, она прошептала: «Une саbriole, merveilleuse, как горд был бы он за тебя, mon chег.»
Потом они шли домой, окрылённые, счастливые, тесно связанные друг с другом, и на ступеньках перед дверью в их квартиру Обломов выполнил совершенно неожиданный soubresaut, сложный вертикальный прыжок из пятой позиции с безукоризненным приземлением. После этого до конца своей собачьей жизни он никогда не танцевал, и Пирожкова ни разу не проронила ни слова об их тайне.Перевела с немецкого Антонина Игошина. * Рассказ “Nurejews Hund” опубликован в книге Elke Heidenreich, Bernd Schroeder “Rudernde Hunde”, Carl Hanser ferlag, München Wien, 2002.
|
| |
| |
| smiles | Дата: Пятница, 22.01.2021, 06:45 | Сообщение # 523 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| Муся и Джаник
Удивительный край – Грузия. Побережье, омытое волнами Чёрного моря. На горизонте горы защищают страну от холодных северных ветров. Вершины гор укрыты вечными снегами, а ниже горные долины с густой травой, быстрые реки, всегда зелёные леса и звонкие ручьи. В лесах жили звери.
Небольшое горное селение, выстроенное совсем близко от леса, больше напоминало очень маленький городок.
В самом центре на круглой площади расположены основные здания – школа, клуб, магазин, крошечная больница и Сельсовет. Домики прятались среди густых фруктовых садов.
На горном пастбище за селением паслись овцы и козы.
С лесными жителями люди жили мирно – они не мешали друг другу. Люди не охотились на зверей, выращивали фрукты, пасли свой скот.
Лес, который люди не портили, давал зверям обильное пропитание, поэтому им не было нужды наведываться в селение и на пастбище.
Но последнее время в эти спокойные края зачастили приезжать из разных очень далёких городов важные люди.
Животных они не любили и, наверное, боялись. Зато им очень нравилось стрелять. Поэтому главным развлечением для них была охота. К ужасу и негодованию местного населения эти приезжие без жалости убивали и калечили несчастный лесной народ. Но сами люди справиться с глупыми мерзкими убийцами не могли, а жаловаться было некому.
В летний выходной день доктор Миша с двумя детьми семилетним Гизо и пятилетней Тамрико пошёл в лес. Там на небольшой полянке среди высоких кедров жили белочки. Если набраться терпения и постоять тихо, можно увидеть, как они прыгают по веткам и даже иногда спускаются вниз, подбирая орешки в траве.
Доктор Миша был известен далеко за пределами собственного селения. Он очень любил зверей, много знал о них и умел помогать, поэтому лечил не только людей.
Он помогал всем. И его знали все.
Взрослые вежливо приветствовали. Дети радостно бежали к нему. Собаки виляли хвостами. Кошки ластились.
Миша с детьми, стараясь ступать как можно осторожнее, вышли на знакомую полянку и только собрались замереть возле большого куста, как неподалёку загремели выстрелы.
С деревьев с криком взлетели птицы. Через поляну пронёсся перепуганный зайчишка. Метнулась куда-то в кусты лиса.
– Опять дикари понаехали, – зло нахмурился Миша.
– Но ведь летом охота совсем запрещена, – возмутился Гизо.
– Кто им может запретить? Для этих законы не писаны, – сквозь стиснутые зубы проворчал Миша.
Тамрико тихо заплакала.
Раздались голоса. На полянку, громко переговариваясь, вышли несколько человек с ружьями и, не обращая внимания на Мишу и детей, удалились, топая и ломая кусты. Миша с ненавистью смотрел им вслед.
– Папа, – Гизо потянул за рукав отца, – Давай пойдём туда, где эти охотники были. Может быть, спасём хоть кого-то.
Разорённую волчью нору нашли сразу. В траве лежали застреленные волк и волчица и просто растоптанные сапогами крошечные волчата – патроны пожалели.
– Идёмте, ребята, – Миша взял за руки плачущих детей, – Мы им ничем не поможем.
Вдруг возле бока мёртвой волчицы что-то зашевелилось и послышался чуть слышный писк. Миша наклонился и осторожно высвободил из-под остывающего тела чудом уцелевшего ещё слепого волчонка.
Теперь нужно было только успеть благополучно донести его домой...
– Ой, бедненький малыш! Всплеснула руками жена Миши Нато и заторопилась греть молоко.
Гизо побежал к соседям, у которых маленький ребёнок, и вернулся с бутылочкой и соской. Через пару минут спасённый волчонок, громко чмокая, сосал молоко. Гизо и Тамрико тем временем сооружали в ящике мягкую постельку.
На всю эту непривычную суету вокруг какого-то странного зверька внимательно смотрела с подоконника кошка Муся.
Когда сытый и сонный серый комочек уложили на тёплую подстилку, Муся спрыгнула с окна, подошла к ящику, заглянула, принюхалась. От нового существа пахло бедой и одиночеством. Конечно, без помощи и заботы людей ему не выжить. Но она, кошка, может дать то, что необходимо любому ребёнку, чтобы расти счастливым – мамину любовь.
Зверёк тихо заплакал во сне. Муся перешагнула через бортик ящика, прилегла рядом, обняла лапкой дрожащее тельце и, тихонько мурлыча, стала осторожно и ласково вылизывать его, как котёнка.
– Смотрите, смотрите! – восторгались дети. – Наша кисонька усыновила волчонка! Какая же она хорошая, добрая.
– Видите, – сказал Миша, – Звери часто оказываются гораздо лучше и добрее людей.
Под Мусину колыбельную песенку волчонок крепко спал, уткнувшись носиком в пушистый кошачий животик. Потом Муся тоже задремала, устроившись возле своего приёмыша и по-прежнему обнимая его. Дети сидели на полу рядом, переговариваясь шёпотом.
– Раз он теперь домашний, ему нужно имя, – рассуждал Гизо.
– А как мы его назовём? – Тамрико серьёзно смотрела на умного старшего брата.
– Пусть будет Джаник. Потому что Муся воспитает его таким же добрым и ласковым, как она сама, – решил Гизо.
Муся почти не отходила от своего нового сына. Когда малыша брали на руки, чтобы накормить, мама кошка сидела рядом и внимательно следила за каждым движением людей. Они, конечно, хорошие – это она знала точно, но всё-таки, мало ли что.
Через пару дней малыш открыл глаза. Потом впервые стал на ножки и, покачиваясь, сделал первые несколько шагов. Муся шла возле него, явно гордясь успехами ребёнка.
Ходить Джаник научился быстро, и тогда мама Муся повела его на экскурсию сначала по дому, потом по саду. Муся неторопливо шла впереди, часто оборачивалась к послушно идущему за ней малышу и чуть слышно примяукивала, промурлыкивала, как будто что-то рассказывала и объясняла.
Волчонок внимательно слушал и, явно, понимал. Он внимательно смотрел на мир вокруг себя зелёными, как ягоды крыжовника глазами, и этот добрый яркий мир ему очень нравился.
Джаник рос быстро, набирался сил, молоко пил из мисочки вполне самостоятельно. Только потом после еды мама Муся отмывала его забрызганную белыми капельками мордочку.
Скоро Джаника стали кормить не только молоком. Когда ему ставили новую еду, Муся сначала подходила и пробовала сама, затем что-то коротко мяукала и только тогда Джаник начинал кушать.
Вообще волчонок ничем не отличался от нормального щенка.
Толстенький, весёлый он радостно носился по саду вместе с детьми, бегал, прыгал, ловил и приносил мячик. Только лаять не умел. Муся наблюдала за шумными играми, сидя на широких перилах веранды. Всё правильно, дети должны много двигаться. Тогда они станут сильными и ловкими. Набегавшись, усталая тройка валилась на траву.
Киска спрыгивала с перил и усаживалась возле Джаника.
Отмыть его, как раньше, она теперь не могла – уж очень он вырос и продолжал расти. Но тут ей помогали люди.
Джаника мыли, расчёсывали, чистили. Его густая шелковистая шёрстка отливала серебром, а хвост был очень пушистым – любой сибирский кот обзавидуется.
За весёлыми играми быстро пролетели зима и весна, наступило новое лето.
Джаник всё так же любил бегать с детьми, носил в зубах свой любимый мячик, но расти перестал. Правда, он и так был больше соседской овчарки.
За ужином Гизо сказал:
– Послезавтра будет год, как мы нашли Джаника. Давайте устроим ему день рожденья.
День рожденья получился отличный.
Тамрико завязала Джанику на шею красивый голубой бант. Нино приготовила самую любимую его еду. Миша купил новый мячик.
В гости пришли соседские дети, с которыми Джаник давно дружил. Люди пили чай с пирогами, пели весёлые песни в честь именинника. А сам именинник, объевшийся всякими вкусностями, лежал посреди веранды, а мама Муся старательно отмывала его перемазанную паштетом морду.
К осени Джаник превратился в мощного огромного красавца волка. После ужина семья любила сидеть на скамейке под большим деревом. Миша что-нибудь рассказывал детям. Волк лежал у их ног на траве. Кошка, как всегда, свернувшись клубочком, дремала между вытянутых волчьих передних лап.
К доктору Мише часто приходили люди – кто-то за советом, кто-то за помощью. Всех соседей кошка Муся знала и не опасалась. Приоткрыв на минутку глаза и убедившись, что это знакомый, Муся продолжала дремать.
Но иногда мог появиться кто-то совсем чужой. Это означало возможную опасность для самого дорогого существа – для Джаника. Тогда Муся резко подскакивала, стрелой вылетала вперёд, стараясь собой прикрыть вальяжно распластавшегося на мягкой травке волка. Шёрстка на выгнутой горбом кошкиной спинке и поднятом вверх хвосте вставала дыбом. Присев на передние лапы и оскалив зубы маленькая кошка грозно шипела на незнакомца.
– Зачем Муся так делает? – удивлялась Тамрико. – Разве она не понимает, что Джаник большой, сильный и никого не боится?
– Потому что мамы всегда такие, – объяснил Гизо. – Наша мама тоже тревожится за нас. И, даже когда мы станем совсем взрослыми, всё равно будет о нас беспокоиться.
Дети присели на корточки возле сердитой Муси. Они гладили вздыбленную спинку, тихо приговаривая:
– Мусенька, маленькая, успокойся, перестань сердиться. Никто нашего Джаника не обидит. Мы тоже его очень любим и всегда будем защищать.
Под тёплыми ласковыми детскими ладошками Муся медленно успокаивалась.
Этим детям она верила. Они спасли её, когда она была совсем маленьким котёнком, и она их любила. Просто их не нужно было защищать.
Муся снова улеглась возле вытянутых лап волка. Дети сели на скамейку.
Волнения и страхи улеглись. И только волк не волновался. Он даже не заметил, что вокруг него происходили какие-то события. Он твёрдо знал, что у него замечательная стая, которая о нём заботится, вкусно и сытно кормит и весело с ним играет. И ещё у него самая лучшая, самая храбрая мама, которая спасёт и защитит от всех бед и неприятностей.
Джаник прижался спиной к ногам сидящих на скамейке Гизо и Тамрико, уткнулся носом в пушистую спинку Муси и продолжал сладко дремать.
Галина Феликсон
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 13:25 | Сообщение # 524 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 712
Статус: Offline
| https://www.youtube.com/watch?v=xJoxbaKfJ9A&feature=emb_logo
стих сей написан Ольгой Выставкиной из Липецка пять лет назад, под впечатлением от рассказа "Томатный сок", который вы только что прослушали...
ЛИДИЯ ЛЬВОВНА
Еврейской крови было в ней немного.
Не больше, чем в котлетном фарше – булки.
… Она была моей довольно строгой,
Но в то же время любящей бабулькой.
Была предельно редкой, даже штучной,
Любая ею сказанная фраза.
Ходить бы мне за ней с листком и ручкой,
Дословно бы записывать рассказы,
Внимать её бесценнейшим советам,
Учиться б, как скрывать свою усталость…
Ах, если бы… но что теперь об этом, –
Два месяца, как бабушки не стало…
Томатный сок иль нужная таблетка, –
То малое, о чём порой просила.
Заглядывал к ней, каюсь, очень редко,
Но знал, КАК меня бабушка любила!
…Взамен любви ушедших получаем
Ту боль, что по объёмности сравнится
Со всем теплом, что в миг один теряем.
Космический баланс?
Как с ним смириться?!
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 13:38 | Сообщение # 525 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
| Васильковые цветочки
Недавно мне попался на глаза мой собственный рассказ про современную телефонную технологию, про всякие там автоответчики, идентификаторы и прочие электронные изощрения. И я этот свой рассказ перечитал. И мне стало смешно.
Не потому, что рассказ такой остроумный, а потому что, пока я его писал и перечитывал, наша технология шагнула так далеко и достигла таких высот, что теперь все эти автоответчики выглядят не намного современнее, чем каменные наконечники стрел.
И я даже не говорю про какие-нибудь замысловатые айфоны и джипиэсы. Я говорю о той технологии, которая проникла в сферы прекрасного и теперь вовсю насыщает нас бессмертнвми художественными ценностями.
Короче, я говорю про оперу на большом экране.
Судите сами. Благодаря этой заоблачной технологии, лучшая в мире опера – Метрополитен Опера – стала доступна, как Макдональд.
Вам не надо ехать в Нью-Йорк и платить четыреста долларов за то, чтобы услышать премьеру какого-нибудь “Любовного напитка” с Нетребкой. Он, этот самый напиток, теперь находится в двадцати минутах езды от вашего дома, за двадцатую долю цены и с полным эффектом присутствия в зрительном зале и даже за кулисами.
Вот такие чудеса творит технология.
Нетребко орёт свои арии в Нью-Йорке, а её в этот момент слышит и видит весь мир. Это называется эйч-ди-опера, то есть опера с высокой разрешающей способностью.
С тех пор, как эта разрешающая способность вошла в нашу жизнь, мы с женой не пропускаем ни одного представления.
Каждый раз я в уме подсчитываю экономию от того, что мы не пошли слушать оперу в театре Метрополитен, и чувствую, что неотвратимо богатею.
Мы приходим в кинотеатр заранее, чтобы занять хорошее место – в центре, не очень далеко, но и не слишком близко. К середине первого акта я обычно засыпаю. Но потом я, конечно, пробуждаюсь и дальше с полной ответственностью слежу за развитием сюжета. А то, что я пропустил, мне потом рассказывает жена.
В тот день, с которого начинается наша история, моя жена не могла пойти слушать оперу. Как раз в этот день у неё на работе случилось важное совещание. Она говорит:
– Ты, милый, иди, слушай без меня, получай удовольствие. А мне потом расскажешь. Или даже споёшь.
Она меня нежно целует, и я отправляюсь в ближайший кинотеатр «Регал», нахожу там самое лучшее место в центре, не очень далеко и не слишком близко, и начинаю предвкушать эстетическое удовольствие.
За пять минут до начала представления операторы включают зрительный зал. Я обожаю этот момент, когда сквозь гул публики пробивается сладостная какофония настраиваемых инструментов, и нарядно одетые зрители протискиваются к своим четырёхсотдолларовым местам. Камеры операторов скользят по залу, то замирая на общем плане, то крупно выхватывая на несколько секунд отдельные группы или случайных дам и джентльменов, не подозревающих, что в этот момент их видит весь мир. Мне нравится разглядывать эту нарядную публику, и сердце моё замирает от эффекта присутствия за умеренную цену.
И вот камера медленно движется вдоль какого-то ряда и вдруг...
Я не могу поверить глазам! На экране появляется мой друг Сёмка Златкин. Он в костюме, который я знаю, и при галстуке, который я тоже безошибочно узнаю. Конечно, это Сёмка! Он с кем-то оживленно беседует и хохочет.
Я тоже мысленно хохочу и представляю, как я завтра буду всем рассказывать про то, как я – хотите верьте, хотите нет – увидел живьём на экране Сёмку Златкина. Или ещё лучше – буду рассказывать самому Сёмке, в каком костюме и при каком галстуке он ходил в Метрополитен. В общем, я не могу поверить в свою удачу.
Тут камера начинает отъезжать, и я вижу Сёмкиного собеседника. У меня останавливается дыхание. Сомнений нет. Это она, в том самом платье с синими цветочками, в котором два часа назад уехала на совещание. Она тоже хохочет и при этом держит Сёмку за руку. А камера продолжает отъезжать, изображение превращается в общий план, и Сёмка с моей женой растворяются в зрительном зале. А я растворяюсь в этом кошмарном видении. Сёмка Златкин... Друг, можно сказать... С моей женой в одном отделе работает... Вот, оказывается, какой он ей сотрудник... Гремит увертюра, поднимается занавес, и уже опера идёт полным ходом, и Нетребко орёт во всю разрешающую способность.
А мне не до оперы, и весь сон как рукой сняло. Нет, это уму непостижимо. За ручку держит, скотина. Я её уже лет двадцать за ручку не держу. И вот вам, пожалуйста...
Дома я принимаю таблетку от головной боли и начинаю ждать жену.
Наконец, поздно вечером она возвращается со своего совещания, в том же платье с синими цветочками, усталая, но умиротворённая.
Не иначе, с Сёмкой Златкиным после оперы совещалась в отеле.
Я молчу.
Она молчит.
Я говорю, наполняя свой голос ехидством:
– Ну, как прошло совещание?
Она молчит. Я говорю:
– А как опера?
– Какая опера? – вскидывается жена.
– Та самая. На которую ты с Сёмкой Златкиным ходила.
Жена бледнеет и отвечает с некоторой задержкой:
– Не понимаю, о чём ты говоришь.
– Прекрасно понимаешь. Весь мир видел, как ты наслаждалась любовным напитком, только не с Нетребкой, а с этим козлом Сёмкой.
У моей жены отличная реакция. Пока я выговариваю свое саркастическое обвинение, она берёт себя в руки и переходит в контратаку:
– Ты что выдумываешь? Какая опера? Да как ты смеешь? Да как тебе не стыдно! Ты меня просто оскорбляешь!
Ну, и так далее. Остановить её уже невозможно. Она продолжает метать молнии с таким угрожающим пафосом, что мне в душу постепенно закрадывается сомнение: может, и правда я ошибся? Может, зря её обвиняю?
Поймав момент, когда она делает вдох, я говорю:
– Знаешь что? Через неделю это представление будут показывать снова, в записи. Давай пойдём, и ты сама себя увидишь.
Она немного колеблется, но деваться некуда, приходится соглашаться, иначе весь пафос пропадёт. Она говорит:
– Конечно, пойдём, чтобы ты сам убедился, какой ты негодяй и как несправедливы твои подлые обвинения...
Ну, и так далее, без остановки.
В общем, неделю спустя мы отправляемся в кинотеатр «Регал», занимаем хорошие места в середине, не слишком далеко и не слишком близко, и ждём представления.
И вот уже камера скользит по залу под гул публики и нестройное кудахтанье оркестра, и наконец крупным планом появляется Сёмка Златкин, а потом и моя верная супруга. Та, которая на экране, хохочет вовсю, а та, которая сидит рядом со мной, молчит, как айсберг.
Камера отъезжает.
– Ну что, видела? – спрашиваю я шепотом.
Жена молчит. Я шепчу опять:
– Видела себя?
– Видела, видела, – раздражённо шепчет жена. И после паузы добавляет:
– Это не я.
– Как не ты? – шёпотом кричу я.
Сзади меня пинают в спину.
– Перестаньте разговаривать. Вы мешаете.
Я замолкаю и с ненавистью жду, когда Нетребко тоже умолкнет и наступит перерыв.
После первого акта мы выходим из кинотеатра и молча едем домой. Там я приступаю к допросу.
– Сёмку видела? – говорю я, стараясь сохранять спокойствие.
– Видела.
– А как ты его за ручку держала видела?
– Это не я, – говорит жена.
– Интересно. А кто же это?
– Откуда я знаю? Не я.
– Как не ты? А платье в синих цветочках твоё?
– Послал Бог дурака, – говорит жена, и я вижу, что она опять переходит от пассивной защиты к активному наступлению. – На моём платье цветочки не синие, а васильковые. Все вы мужчины дальтоники, цветов не различаете. А ещё берёшься судить. Ещё меня обвиняешь... Можно сказать, унижаешь...
В голосе её появляются высокие ноты, переходящие в надрыв.
– С тобой всегда так! – визжит она. – Двадцать лет мучаюсь! Всю жизнь мне отравляешь!
Я понимаю, что сражение проиграно. Надо капитулировать.
– Ну, ладно, ладно, – говорю я. – Васильковые – значит васильковые. Это я по ошибке думал, что синие.
– Это у той, на экране, синие цветочки. А у меня васильковые, понял?
– Ну да, конечно. Я так и подумал, что это не ты. Интересно, кто эта Сёмкина фря в синих цветочках.
– Не вздумай ему звонить, – говорит жена. – Не дай Бог, его благоверная узнает, семью разрушишь. Чаю вскипятить?
Шторм затихает, и я уже готов забыть про этот подлый любовный напиток с Нетребкой и синими цветочками. Но на следующий день оказывается, что ягодки ещё впереди.
Звонит Вася Гольдин.
– Ну как? – говорит.
– Да так, - отвечаю.
– Видел?
– Что видел?
– То самое. Сёмку Златкина с твоей женой.
– Это не она! – кричу я. – У моей жены на платье цветочки не синие, а васильковые! Понял? Совершенно другие цветочки!
Я в негодовании бросаю трубку, но не успеваю перевести дух, как звонит Мишка Шматкис. Он долго жуёт какую-то жвачку про плохую погоду и хороший прогноз и, наконец, выдавливает:
– Слушай, я сам не видел, но все говорят...
– Неправда! – кричу я. – Они все врут! Это не она! Цветочки не те! Синие цветочки! Синие, понял? А у неё васильковые, понял?..
Так продолжается весь день. Звонят родственники и знакомые. Звонят близкие друзья и далёкие приятели. Когда я уже готов принять таблетку от головной боли и лечь спать, происходит самое гадкое: звонит Сёмка Златкин.
– Старик, нам надо объясниться, – глухо говорит Сёмка. – Я понимаю, что ты видел нас в театре, и я бы хотел...
– Подожди. Кого это «нас»?
– Ну... меня и её... твою жену.
– Моей жены там не было! – парирую я. – Это была не она!
Сёмка пытается что-то сказать, но начинает давиться. Он долго мычит, кашляет и, наконец, выдавливает:
– А кто?
– Откуда я знаю? – говорю я, не скрывая раздражения. – Какая-то баба в платье в синих цветочках. У моей жены цветочки васильковые, а не синие.
– Ага. А я там был?
– Ты был. Слушай, не морочь мне голову. Говори, зачем ты звонишь.
– Понимаешь, – говорит Сёмка, и голос его начинает дрожать. – моя жена подала на развод на основании того, что я ей изменяю с этой самой... в синих цветочках... ну, в общем, с другой женщиной.
– Правильно сделала, – говорю я, не скрывая злорадства. – Таких, как ты, надо учить. А при чём тут я?
– Ты очень даже при чём. Знаешь, как говорят? Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Так вот, это неправда. Я бы предпочёл сто рублей.
– Это примерно три доллара.
– Правильно, – говорит Сёмка. – Я бы лучше имел три доллара. Поначалу все эти друзья звонили моей жене и рассказывали, что видели меня с твоей женой. От этого я ещё мог отбрехаться. Все-таки, мы работаем вместе. Я объяснил жене, что у нас было совещание с группой китайских инвесторов, и после совещания мы повели их в оперу. И она мне поверила. И всё затихло, и моя семья была спасена. Но потом ты стал всем объяснять, что эта была не твоя жена, а неизвестно кто. И наши бесценные друзья снова стали звонить моей дуре и объяснять, что я был в театре с какой-то блядью неизвестного происхождения, а вовсе не с сотрудницей.
И вот тогда началось. Она уже наняла адвоката. Хочет отнять у меня дом и все наши сбережения...
Сёмкин голос окончательно раскалывается, он всхлипывает, громко сёрпает носом и подвывает. И я начинаю испытывать что-то вроде жалости и лихорадочно пытаюсь сообразить, что делать дальше. Ничего не придумав, я говорю:
– Ты, Сёмка, скотина. И мне тебя не жаль. Ты получил то, что заслужил. Пусть твоя жена от тебя уходит, так тебе и надо.
– Ты напрасно так говоришь, старик, – говорит Сёмка, неожиданно успокаиваясь. – Если моя жена уйдёт от меня, то твоя уйдет от тебя.
– Куда она уйдет?
– Ко мне – говорит Сёмка. – Мы с ней это уже обсудили и решили, что мы, может быть, даже любим друг друга. Так что, подумай. В твоих силах сохранить мою семью, чтобы сохранить свою.
У меня начинает кружиться голова, и я чувствую, что перестаю соображать. Я говорю, с трудом преодолевая тошноту:
– Что же я могу сделать?
– Очень просто, – говорит Сёмка. – Обзвони всех и объясни, что ты ошибся. И что твоя супруга действительно по делам службы ходила со мной в театр. И что ни её, ни меня на самом деле никакие любовные напитки не интересуют, но служба есть служба. И всё встанет на свои места.
– И моя жена не уйдёт к тебе?
– Конечно нет. Зачем я буду ей нужен без дома и сбережений?
– Ладно, Сёмка, я постараюсь, – говорю я устало. – Ты, конечно, сволочь, но дружба дороже.
Вечером моя жена возвращается с работы в приподнятом настроении.
– Милый, – говорит она, – ты, конечно, понял, что я пошутила, правда? Разумеется, это была я в театре с мистером Златкиным.
– Знаю. знаю, – говорю я уныло. – У вас было совещание с китайскими инвесторами, после чего вы их повели слушать оперу. Непонятно только, зачем ты поменяла платье с васильковыми цветочками на такое же с синими.
– Ах, милый, ты так наблюдателен! – мурлычет жена. – Это на самом деле одно и то же платье. Но при телетрансляции цвета искажаются, и на экране васильковый цвет выглядит синим. Ты же знаешь, как несовершенна современная технология.
– Ты права. Лучше бы её вообще не было. Я это объясню нашим друзьям и знакомым. Вскипятить чаю?...
Так мир восстанавливается в нашем счастливом доме, и жизнь входит в прежнюю колею. По утрам мы целуемся и разъезжаемся – каждый на свою на работу. По вечерам встречаемся, целуемся, ужинаем и пьём чай.
И по-прежнему ходим слушать оперы с высокой разрешающей способностью – всегда вместе. Разумеется, за исключением тех случаев, когда у жены на работе бывает важное совещание.
Александр Матлин
|
| |
| |
|










