| Форма входа |
|
 |
| Меню сайта |
|
 |
| Поиск |
|
 |
| Мини-чат |
|
|
 |
|
|
кому что нравится или житейские истории...
| |
| papyura | Дата: Суббота, 20.03.2021, 07:45 | Сообщение # 526 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1561
Статус: Offline
| Алекс Тарн
Томик в мягкой обложке
Рассказ
Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 1, 2021
Алекс Тарн — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, откуда репатриировался в 1989 году.
Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Живет в поселении Бейт-Арье (Самария).
Сжатый темной теснотой, туго спеленатый вместе с другими точно такими же, как он, Юрий Андреевич сначала не чувствовал ничего — вообще ничего. Неудивительно: чтобы чувствовать, вспоминать, жить, надо по меньшей мере отделиться от общей массы, стать самостоятельным субъектом, а до этого, видимо, было ещё далеко.
Кроме того, он плохо понимал по-английски. Обрывки немногих реплик, доносившиеся сквозь несколько слоёв толстой обёрточной бумаги, звучали совершеннейшей абракадаброй, поэтому Юрий Андреевич счёл за благо не вслушиваться и отключился до лучших времён.
Потом его, опять же, как и других, грубо ворочали, швыряли, переворачивали — и так, и эдак, до тошноты, до полного отупения.
Внешний мир проявлял себя то дробной дорожной тряской, то воем стартующих авиационных двигателей, то жутким холодом багажного отделения.
Трудно сказать, как долго их перетаскивали, перевозили, перебрасывали с места на место. Но вот наконец послышался треск разрываемой обёртки, и в глаза Юрию Андреевичу ударил яркий электрический свет.
— В мягкой обложке? — сказал кто-то по-немецки.
Немецким и французским Юрий Андреевич владел более-менее свободно.
— Как показывает опыт, твёрдые обложки всё равно отрывают, — отвечал другой голос.
— Отрывают? Зачем?
— Легче спрятать. Бывает, вообще, расчленяют на четыре-пять кусков…
— Дикость какая…
— Так что, берёте?
Первый взял Юрия Андреевича в руки и бегло перелистал. Это было неизъяснимо приятное чувство, острое ощущение начавшейся личной жизни, самостоятельной, отдельной от двойников — товарищей по пачке.
— Я практически не читаю по-русски… — брюзгливо проговорил листающий. — Как объясню, если задержат на таможне?
— Вы ничем не рискуете, — возразил его собеседник. — Самое худшее, что может произойти — отнимут и отпустят. Никто не бросит вас в тюрьму за найденную в багаже книгу нобелевского лауреата.
— А если не отнимут? Кому потом…
— По вашему выбору. Там и сориентируетесь, прямо на симпозиуме.
— Хорошо… — с явной неохотой согласился первый.
Он захлопнул маленький, карманного формата томик и сунул его в портфель, где уже находились — как видно, на более законных основаниях — две пухлые папки с тесеёмками, огромная монография по физике твёрдого тела, дневник-календарь в роскошном кожаном пальто и плоская фляжка, распространявшая едва уловимый аромат отдыха от трудов и забот.
— Коньяк? — приветливо поинтересовался Юрий Андреевич.
— Скотч, — помедлив, булькнула фляжка. — А вы, судя по акценту, француз?
— Русский.
— Пфуй…
Последнее презрительное междометие принадлежало твёрдотельной монографии, которая явно считалась здесь за главную. Не удовлетворившись этим кратким, но ёмким выражением неудовольствия, она тяжело навалилась на Юрия Андреевича жёстким дерматиновым боком.
Он попробовал было сдвинуться ближе к папкам, но те в ответ ещё больше распухли — теперь уже от возмущения. Фляжка тоже замолкла и отвернулась, вжав в плечи блестящую бескозырку. Что касается дневника, то тот и вовсе ни на кого не смотрел ввиду крайней занятости.
«Ну и чёрт с вами, — подумал Юрий Андреевич. — В пачке ещё тесней было, а ведь как-то выжил. Справлюсь и теперь…»
И действительно, вскоре его перенесли в чемодан — к тщательно отглаженным брюкам, галстукам и рубашкам. Впрочем, Юрию Андреевичу досталось место попроще, в другом, менее упорядоченном углу, рядом с туфлями, электробритвой, одеколоном и таблетками от изжоги. Хозяин чемодана аккуратно заполнил пустоты туго свернутыми носками и прикрыл сверху слоем трусов, под которые после некоторого размышления засунул упаковку презервативов. Получилось, хотя и не нарочно, но не очень хорошо: прямиком на мягкую обложку — можно даже сказать, на лицо Юрия Андреевича, — на что тот отреагировал обычным образом, чрезвычайно характерным для целомудренной натуры идеального российского интеллигента: то есть сначала задохнулся от возмущения, а затем, поняв принципиальную бесплодность борьбы, постарался перенести вопрос в философскую сферу.
— Ну вот, опять! — фыркнул флакон одеколона. — Зачем он каждый раз это берёт? Какой смысл? Потом ведь всё равно обратно повезет.
— На всякий случай, — пояснили трусы, относительно новые, но уже много повидавшие. — А чего не взять-то? Места не занимает, не то что некоторые…
Все посмотрели на довольно объемистую электробритву, но та не ответила, ибо обретала дар речи лишь при подключении к розетке.
«Народ, простой народ со своими насущными проблемами… — меланхолически думал Юрий Андреевич, прислушиваясь к разговору соседей. — Проблемы жизненной скученности, судьбоносной случайности, проблемы пропитания и смысла…»
Снаружи звучало радио, шумела городская улица, ревели двигатели аэроплана, перекрикивались грузчики — сначала по-немецки, а затем и на родном русском наречии...
Чемодан с Юрием Андреевичем и его попутчиками бережно несли, поспешно катили, немилосердно швыряли и снова катили, и снова несли неведомо куда, и в этой внешне бессмысленной и непостижимой тряске трудно было не усмотреть продолжения всё той же в чём-то трагической, а в чём-то вполне заслуженной судьбы социальной прослойки, к которой всем своим существом принадлежал Юрий Андреевич.
«Я всего лишь прослойка, — думал он. — Пропахшая этим проклятым попутным одеколоном прослойка, прижатая к бритве толстым слоем трусов. Ведь залог нашего интеллигентского бытия — терпение. Терпение, несмотря ни на что, невзирая на любые испытания — даже самые неприятные, какие судьбе угодно навалить нам на плечи, или, как в данном случае, на лицо. Потому что так хочет народ, так хочет история…»
И всё же Юрий Андреевич вздохнул с облегчением, когда хозяин чемодана, обосновавшись в гостиничном номере, переложил книгу в знакомый портфель. Теперь здесь было куда просторней — ни тебе папок, ни тебе монографии — только чванливый ежедневник, который Юрий Андреевич мысленно окрестил «комиссаром» за его кожаную тужурку, и плоская фляга, совершенно опустошенная долгой дорогой, а потому не расположенная к беседе.
Там, внутри, Юрий Андреевич провёл несколько томительных дней. Время от времени слышался плавный шелест замочков, и клапан откидывался — широко и щедро, как и полагается солидным портфелям.
«Неужели меня?» — с замиранием сердца думал Юрий Андреевич, но всякий раз обманывался в своих ожиданиях. Чаще всего на выход приглашалась фляга, иногда — «комиссар». Случалось, что рука хозяина задумчиво касалась и мягкой обложки Юрия Андреевича. Касалась, медлила, словно сомневаясь, стоит ли вытащить томик наружу, и минуту-другую спустя, так и не отважившись на это, вновь захлопывала клапан.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды портфель не остался открытым. По характеру проникавшего внутрь прохладного света можно было догадаться, что он стоит возле окна — по-видимому, на широком подоконнике. Неверной рукой пошарив внутри, хозяин вытащил уже наполовину пустую флягу.
— Давайте попьём за ваш здоровье! — проговорил он на ломаном русском. — Профессор! Пожалуйста! Прелестный скотч!
— Что вы, господин Мозер, — отвечал кто-то другой с оттенком беспокойства. — Прямо здесь, в коридоре?
— Почему нет? — повысил голос немец. — Я улетает сегодня, а мы так и не попили!
— Ладно, давайте… Прозит!
Послышалось бульканье, и после непродолжительной паузы фляга вернулась в портфель.
— Я хочу спросить про этот роман, — сказал хозяин. — Вы читаете его?
— Не понимаю, о чём вы, — отозвался его названный профессором собеседник. — Какой такой роман?
Немец принужденно рассмеялся:
— Вы знаете какой… Так читаете? Или нет?
— Нет, господин Мозер, — сухо ответил профессор. — У нас подобные вещи в книжных магазинах не продаются.
— Это не есть проблема, — рука снова нырнула в портфель и выудила оттуда Юрия Андреевича. — Вот, пожалуйста. Подарок…
Глазам Юрия Андреевича предстал длинный учрежденческий коридор — странно безлюдный, хотя время было явно дневное, урочное. Вдоль внешней стены тянулась шеренга окон с наглухо заделанными, грубо закрашенными, залепленными пожелтевшей позапрошлогодней бумагой рамами и широченными старорежимными подоконниками. А за окнами… за окнами мерцало низкое северное небо, поблескивала сталью река, а за рекой, словно подчёркивая господствующую вокруг серость, сиял неожиданно яркий золотой купол.
«Петербург, — подумал Юрий Андреевич. — Или, как его сейчас называют, Ленинград. Жаль, конечно. Я предпочёл бы Москву и москвичей. Но выбирать никто не предлагал…»
— Вы что мне предлагаете? — словно подслушав, прошипел ленинградский профессор. — Вы с ума сошли! Немедленно уберите эту гадость!
Его серое обрюзгшее лицо в обрамлении неопрятной седины качнулось туда-сюда и отпрянуло. Немец жалобно пискнул, тщетно пытаясь найти слова самооправдания, но профессор уже повернулся к гостю спиной и твёрдым шагом маршировал вдоль ровного строя окон, подобный генералу, наотрез отказавшемуся капитулировать.
— Чёрт бы тебя побрал… — перейдя на немецкий, пробормотал хозяин.
«Неужели опять в портфель?» — уныло подумал Юрий Андреевич.
— Чеёт бы тебя побрал… — подняв книгу ближе к глазам, повторил немец, и Юрий Андреевич понял, что проклятие адресовано вовсе не профессору.
Широкими шагами миновав коридор, господин Мозер ворвался в уборную, и с полминуты колебался, прикидывая, куда выбросить опостылевший томик. Унитаз не подходил из-за опасности засорения, открытая форточка — из-за угрозы здоровью прохожих, мусорной урны в туалете не наблюдалось. Не найдя ничего лучшего, немец пристроил Юрия Андреевича под окно и, облегченно вздохнув, исчез навсегда вместе с портфелем, пустой флягой и надменным ежедневником.
В уборной стояла застарелая сортирная вонь, и Юрий Андреевич с тоской вспоминал тонкие запахи чемодана и портфеля, искренне не понимая, как можно было жаловаться на соседство с флаконом одеколона. Но вскоре, принюхавшись и попривыкнув, он опять же решил взглянуть на происходящее с философской, почвенной точки зрения.
В конце концов, нет ничего более застарелого, чем почва, с её живительным перегноем, с её диалектикой вечной утилизации мертвых тел во имя новых и новых рождений. Юрий Андреевич уже собирался развить эту мысль, надеясь добраться в промежуточном итоге и до частного случая интеллигента в общественной уборной, но тут хлопнула дверь и вошёл молодой мужчина в бороде и синем лаборантском халате, отчего Юрий Андреевич немедленно — и наверняка несправедливо — окрестил вошедшего «Синей Бородой». Насвистывая простенький мотивчик, Синяя Борода вытряхнул папиросу из пачки, закурил и подошёл к подоконнику с явным намерением на него взгромоздиться.
Сердце у Юрия Андреевича ёкнуло. Продолжая насвистывать, бородач уселся поудобнее, подобрал томик, открыл его на середине, полистал, скользя равнодушным взглядом по густо посаженным строчкам и, уже собравшись было отложить, добрался-таки до титульного листа. Свист резко оборвался, сменившись изумлённым безмолвием.
Синяя Борода закрыл книгу, вернул её на прежнее место, спрыгнул с подоконника и несколько раз прошёлся взад-вперёд, заглядывая в кабинки и зачем-то всматриваясь в углы давно не беленого потолка.
Завершив этот странный обход, лаборант остановился перед затаившим дыхание томиком и, качнув головой, произнёс длинную матерную тираду, куда более замысловатую, чем те, которые Юрию Андреевичу приходилось слышать за все время Гражданской войны, включая пребывание в таёжном партизанском отряде.
В коридор они вышли вместе: бородач — поминутно оглядываясь и продолжая вполголоса материться; Юрий Андреевич — в кармане синего халата, вплотную к грубоватой папиросной пачке, которая пахла махоркой, то есть тоже весьма народно и почвенно, хотя и не в такой степени, как уборная.
Синяя Борода, по паспорту — Геннадий Восьмёркин, был аспирантом с кафедры минералогии, уроженцем промышленного уральского города. К моменту знакомства с Юрием Андреевичем Восьмёркин проживал в университетском общежитии. Как раз за неделю до описываемых событий ему существенно улучшили условия, переселив из густонаселённой шестикоечной комнаты в другую — поменьше, зато на двоих. Новым соседом Гены оказался старик на вид лет шестидесяти. Старика звали Мигулёв, и он учился на четвертом курсе истфака, восстановившись на факультете после лагеря, штрафбата, повторного срока и последующей реабилитации.
На самом деле ему не было ещё и сорока.
К художественной литературе Гена Восьмёркин относился сдержанно и, если б не скука и скученность общежития, вряд ли вообще брал бы в руки какую-либо книгу, кроме, конечно, учебников.
За Юрия Андреевича он взялся сугубо из любопытства, побуждённый к тому невиданной страстью, с которой газеты прорабатывали преступного автора. Увы, к разочарованию Гены, роман не содержал ничего интересного — сплошные разговоры ни о чём, а действия чуть.
Втайне Восьмёркин всерьёз рассчитывал на сцены насилия и порнографии, которыми, как известно, пестрит порочная капиталистическая культура, и, не обнаружив их, чувствовал себя обманутым вдвойне.
Зачем он как дурак рисковал, пронося крамолу через проходную? Зачем таился от соседа, захлопывая книгу всякий раз, когда тот оказывался в опасной близости?
Впрочем, последнее не помогло; намётанный глаз бывалого зека без труда определил причину Гениного смущения.
— Ты вот что, парень, — сказал Мигулёв, помешивая чёрный-пречёрный чай в мятой кружке, которая вместе с алюминиевой ложкой составляла весь набор имевшейся у него посуды. — Не знаю, кто ты сам будешь, но меня за стукаря не держи. Я к куму по своей воле не хаживал, только под конвоем. Что там у тебя? Оруэлл? Авторханов?
— К-кто? — оторопев, выдавил Восьмёркин, никогда до того не слышавший прозвучавших имён. — Какой орёл? Каких ханов?
— Хватит в дурочку играть, — усмехнулся сосед. — Передо мной-то не надо. Не хочешь — не говори.
— А ты… откуда… как ты…
Мигулёв насмешливо подмигнул.
— Как-как… зелёный ты совсем, необученный, вот как. Во-первых, жмёшься, как малолетка. «Граф Монтекристо» так не читают. Во-вторых, формат у книжечки не наш, бумага тоненькая, шрифт другой. Короче говоря, сразу видно: тамиздат.
— Да я не нарочно, — ещё больше смутился Гена. — Я это в сортире нашёл, на подоконнике.
— Само собой! — подхватил отставной зэк с выражением искреннего сочувствия. — Верю! Конечно, в сортире. Они ведь там грудами лежат, такие книжки. На подоконнике. Говорят, их там же и печатают.
— Да ну тебя! — разозлился Восьмёркин. — Не хочешь — не верь. Дурак я, что взял. Ничего интересного. Правильно его в газетах ругают. За что там Нобелевку давать? Скука такая, что скулы сводит…
— А ну-ка… — Мигулёв поставил кружку на тумбочку и, перегнувшись через проход между койками, выхватил томик из вялых от неожиданности рук соседа. — Не возражаешь? Та-ак… Этого я ещё не читал.
— Оставь себе, — с облегчением проговорил Гена. — Я ж говорю — скучища. Едва до половины дотянул…
— Оставлю, спасибо, — задумчиво кивнул сосед, перелистывая тоненькие странички. — Эх, Гена-Геночка-Геннадий… Раньше ты только за хранение шёл, а теперь вот ещё и за распространение… Да не напрягайся ты так, я ведь шучу. Шучу я…
Юрий Андреевич слушал этот диалог с нарастающим разочарованием. Он никак не ожидал, что знакомство с ним вызовет у Синей Бороды такую откровенную неприязнь. И не просто неприязнь — скуку!
И это — первый его читатель, незабвенный для всякой книги, подобно первой любви для всякого человека! Его первый интимный контакт с тёплой рукой, сжимающей раскрытый томик, с нетерпеливыми пальцами, поглаживающими страницу, с дыханием — ровным или участившимся в такт описываемым событиям, с улыбкой, сопровождающей удачную шутку, фразу, каламбур… И вот — скука! Скука?!
И, что самое обидное, бородатый Восьмёркин казался поначалу таким своим, таким близким Юрию Андреевичу. Учёный-аспирант, то есть заведомый интеллигент. Грубоватая повадка, низкосортные папиросы, синий халат, матерщина, то есть явная связь с простым народом. Происхождение из российской глубинки, то есть из мест, не столь уж удалённых от Юрятина…
Всё сходится! Почему же скука?! Да ещё и такая, при которой отбрасывают книгу, не дочитав?
Зато Мигулёв с его каторжными замашками оказался довольно внимательным читателем. В отличие от Восьмёркина, легкомысленно пропускавшего абзацы, а иногда и целые страницы текста, он не испытывал затруднений даже в тех местах, которые выглядели скучноватыми и с точки зрения самого Юрия Андреевича. Вот только дружба с бывшим лагерником никак не завязывалась, а Юрию Андреевичу хотелось именно этого — тёплых человеческих отношений, взаимопонимания, поддержки… Более того, если судить по хмурому выражению лица и недоумённому, а часто и презрительному фырканью, здесь, скорее, имела место откровенная антипатия, в лучшем случае — неприязненное равнодушие.
Книгу Мигулёв таскал с собой, в комнате не оставлял, резонно опасаясь чужих глаз — на то ведь оно и общежитие, что двери тут всегда нараспашку. Наученный горьким опытом, он вообще мало кому доверял не только в университетской среде, кишащей стукливыми дятлами, но и в принципе, по жизни.
Одним из этих немногих был его старый научный руководитель Артамонов, тоже посидевший, хотя и коротко, в первой соловецкой волне конца двадцатых годов. Они успели съездить вместе в экспедицию ещё до войны, и это давнее знакомство связывало их, как мост, протянувшийся над чёрной, на полтора десятилетия, дырой мигулёвской отсидки.
Нельзя сказать, что Юрию Андреевичу нравилась свалившаяся на него кочевая жизнь. Назначение книги — пребывать в руках читателя, на его столе, а в остальное время — на полке, в покое и ожидании. А непрерывная тряска в сумках, портфелях и карманах подобает разве что кошельку с медяками. Но и в комнате, где постоянно бубнила радиоточка, он чувствовал себя не лучше. Уж больно часто это неумолкающее радио говорило о нём — чрезвычайно скромном, в общем-то, человеке, никогда не любившем находиться в центре внимания.
За что его кляли и ругали с такой неистовой силой? Чем он провинился? Кого обидел он, тихий интеллигент, принципиально старавшийся жить по-христиански, то есть так, чтобы не обидеть никого?
Вот и сейчас… — другой на его месте непременно бы оскорбился, стал протестовать, хлопать дверьми, стучать кулаком по столу… А он? Разве он оскорбляется, хлопает, стучит? Нет. Он привычно терпит, беззвучно глотает боль, безропотно сносит неправедные наветы. Молчит, как Тот, из стихов в конце томика, отданный на суд подонкам и юлящим, как лиса, фарисеям.
Ведь если даже Тот отказался без противоборства, то осмелится ли поднимать голос протеста он, Юрий Андреевич?
И всё же он радовался, когда Мигулёв, уходя из комнаты по своим делам, доставал его из-под подушки, чтобы сунуть в карман плаща или в потрёпанную наплечную сумку — портфелем этот дважды студент так и не разжился.
К несчастью, проклятое радио было включено повсюду — в квартирах, в конторах, в магазинах. От него нельзя было спрятаться даже в трамвае, даже на улице, где на фонарных столбах тут и там виднелись огромные раструбы, на весь мир возглашающие стыд и позор безответному томику в мягкой обложке.
Работало радио и в квартире доцента Артамонова, куда Мигулёв время от времени приходил обсудить предстоящие раскопки в приволжских степях, а заодно и подхарчиться.
Как-то раз Юрий Андреевич уже приготовился вытерпеть очередную передачу о своём подлом предательстве, как вдруг Мигулёв, чертыхнувшись, поднялся со стула и выдернул из розетки шнур репродуктора. В квартире воцарилась тишина, хотя, если поднапрячь слух, можно было услышать звук той же трансляции из соседних квартир.
— Осточертело! — махнул рукой Мигулёв в ответ на удивленный взгляд своего руководителя. — Сколько можно? Долдонят одно и то же.
— А, ты об этом… — сообразил Артамонов.
— Об этом, об этом, — мрачно повторил студент. — Самое неприятное, что во многом они правы. Я ведь это сочинение совсем недавно проштудировал. Думал, будет что-то необыкновенное, если уж рабочие и колхозники так настоятельно рекомендуют не читать. Что-то типа «Войны и мира».
— Ну и как?
— А никак. Хрена лысого! Рыхло, слабо, бесформенно, непонятно зачем и о чём. Главный герой какой-то малахольный, ни рыба, ни мясо. Ходит, как бледная тень… вернее даже, не сам ходит, а ветер его носит. Туда — сюда, туда — сюда. И при этом благородный до карикатурности.
А хуже всего — истёртые банальности на каждом шагу. Любимая по долгу совести жена. Любимая по зову страсти любовница. Неумолимый рок, то разлучающий их, то сталкивающий снова — и опять же, без малейшего сотрудничества со стороны героя.
Ну разве это не пошло, не безвкусно, не пережёвано многократно обычным бульварным чтивом? Представляете, Алексей Алексеевич, есть там даже адвокат, совратитель малолеток, нечто среднее между Свидригайловым и порочным злодеем из оперетты.
В общем, я еле-еле до конца дотянул, да и то потому лишь, что ждал и надеялся: а вдруг под занавес проявится какое ни на есть откровение. Поэт-то он всё-таки хороший. Дудки. Финал — как вода в песок. Пустая вода, даже не зашипело.
Артамонов рассмеялся.
— Ну, Лёва, эк ты его растоптал… Человеку как-никак Нобелевку дали. Значит, были причины.
Мигулёв пожал плечами:
— Верно, дали. И причины, наверно, были. Только вот мне они не видны. Может, вы разберёте, Алексей Алексеевич? Хотите, дам почитать? Или даже подарю — мне это великое творение всё равно девать некуда. В общежитии такую книгу на полку не поставишь, да и не нужна она мне на полке.
— Спасибо, Лёва, но я уже прочитал.
— Прочитали? И что?
Артамонов помолчал, задумчиво глядя на стол с разложенными там бумагами и фотографиями. Юрий Андреевич, затаив дыхание, ждал его ответа. Он слышал весь разговор из сумки, которая висела здесь же, на спинке стула, и жестокие слова Мигулёва задели его намного сильней, чем ежедневные потоки радиогрязи. Своему первому читателю он показался скучным — что, как выяснилось теперь, было далеко не самым обидным. Безвкусица, пошлость, банальность… — это уже звучало смертным приговором. Неужели доцент согласится? По возрасту он казался ровесником Юрия Андреевича и, значит, видел в жизни примерно то же, что и тот: почивший в сытости век больших надежд, Первую мировую войну, революцию, гражданскую, двадцатые годы… Уж такой-то человек должен кое-что понимать — в отличие от недалекого Восьмёркина или озлобленного жизненными невзгодами Мигулёва.
— Думаю, ты прав: роман слабый, — проговорил наконец Артамонов. — Проза хороша, словом он владеет мастерски, видно, что поэт написал. Но для романной формы этого маловато. Должна быть жизнь, объём, натуральное дыхание, а там в этом смысле плоско, как на плакате.
Сердце Юрия Андреевича упало. Это он-то плоский, плакатный, неживой?
— Но иначе, видимо, и быть не могло, — развёл руками доцент. — Потому как евреем написано.
Мигулёв удивлённо поднял брови.
— Что вы имеете в виду, Алексей Алексеевич? Что, еврей не может писать про русских?
— Может, конечно, может. Но правдиво при этом получится только в одном случае: если он пишет с позиции еврея. А тут автор пытается писать о русских как бы изнутри, как бы с точки зрения воображенного им русского писателя.
— Не уверен, что понял, — покачал головой Мигулёв.
— Смотри, Лёва, — сказал Артамонов. — Возьмем ситуацию наоборот. Как пишут о евреях русские? Гоголь, Пушкин, Достоевский, Тургенев… Пишут отстраненно: когда грубо, когда насмешливо, когда с презрением, когда с жалостью, когда с отвращением. Но всегда именно так, глядя со стороны. Это и есть правда, потому что евреи на Руси — посторонние люди, чужие, непонятные.
— Ну, допустим. И что?
— А то, что представь теперь другой вариант, когда тот же русский писатель берется описывать евреев как бы изнутри, как бы с точки зрения самих евреев. Может ли получиться у него что-либо другое, кроме сусальной банальности, вранья, ерунды на постном масле? Нет, не может, поскольку предмета он знать не знает, чувствовать не чувствует. Русские за это не берутся, и правильно делают. Потому что известно: не в свои сани не садись.
— Вы хотите сказать, что автор сел не в свои сани?
— Именно! Что видит реальный еврей, когда смотрит на реального русского? Видит угрозу, видит неприязнь — где открытую, явную, а где интеллигентную, спрятанную под внешней вежливостью. Видит чужого, враждебного, в лучшем случае — равнодушного человека. А что видит еврей, который непременно хочет заделаться русским и со временем даже уверяет себя и окружающих, что это ему удалось? Такой еврей видит совсем-совсем другого русского — этакого идеального Юрия… как его?
— Андреича, — подсказал Мигулёв.
— Вот-вот. А то, что подобного Юрия Андреича в природе нет и быть не может — об этом наш еврейский кандидат в русские и слышать не хочет. Ведь это означает, что он сам потерпел неудачу, что он так и не стал русским. Хотеть-то хотел, а вот стать — не стал…
Знаешь, что? Если уж ты непременно хочешь пристроить эту книженцию в чью-то библиотеку, отдай её какому-нибудь интеллигентному еврею, а ещё лучше — еврейке. Им должно понравиться. У тебя есть такие знакомые?
Мигулёв кивнул:
— У кого нет… А почему еврейке лучше?
— Женщины реже стучат, — улыбнулся доцент. — Ладно, вернёмся к нашим курганам…
И они вернулись к своим курганам, оставив Юрия Андреевича в тягостном недоумении.
Это его-то не существует в природе? Чушь какая-то… Как и идиотское утверждение, будто еврей не может писать о русских. Почему не может? Разве автор не вырос в лоне русской культуры, под перезвон православных колоколов? Разве не общался он с русскими людьми? Как уверяла Лариса Фёдоровна, у любого русского, если он городской житель или человек умственного труда, половина знакомых — из числа евреев!
Хотя, честно говоря, Юрий Андреевич предпочел бы, чтоб их не было вовсе, этих знакомых, чтобы они исчезли, бесследно растворившись среди других — таких вот, как он, интеллигентных благородных людей.
К несчастью, евреи упорно отказывались освободиться от самих себя, от верности своему потерявшему значение допотопному наименованию, от своей бесполезной и гибельной позы, от приносящей одни бедствия обособленности. Юрия Андреевича сердило их ироническое самоподбадривание, будничная бедность понятий, несмелое воображение… — всё это раздражало, как разговоры стариков о старости и больных о болезни.
И даже когда их громили и убивали, Юрию Андреевичу трудно было отрешиться от ощущения постыдной двойственности, от сознания, что его сочувствие — наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.
Да, он сочувствовал избиваемым евреям, чтобы отделить себя от погромщиков, чтобы не называться дурным, недопустимым для интеллигента словом «антисемит», а неприятный осадок оставался оттого, что на самом деле сочувствия не было и в помине; вернее, было, но стыдное, обращенное совсем к другой, избивающей стороне, выражающей по сути, хотя и в дикой непозволительной форме, то же самое подспудное желание Юрия Андреевича видеть окончательное исчезновение с лица земли этой бесполезной, а значит, вредной народности упрямцев.
Их крикливое, назойливое, нелогичное и потому абсолютно незаконное с точки зрения здравого исторического смысла присутствие беспокоило и мешало жить. По этой причине Юрий Андреевич предпочёл бы не замечать их вовсе.
Что было, конечно, неимоверно трудно ввиду особенной активности евреев и их непропорционально большого участия буквально во всех важных событиях. Трудно, но возможно…
Юрий Андреевич мысленно пролистал страницы романа и, к своему удовлетворению, обнаружил там всего двух представителей лишней нации: Сашу Гордона, полностью разделявшего концепцию бесследного растворения, и безымянного старика, над которым подшучивал казак, делая это, впрочем, беззлобно и необидно, что не помешало Юрию Андреевичу сурово выбранить шутника.
Всего двое — считай, что и нет… Может, в этом-то и проблема? Может, их отсутствие в книге зияет, подобно чёрной дыре, создавая ощущение недосказанности, неполноты, неправды? Но ведь история и назначила им неминуемо провалиться в эту чёрную дыру — и чем скорее, тем лучше… Значит, эта неполнота — вовсе не неправда, а напротив, выражение высшей, будущей правды, где нет ни эллина, ни иудея. Нет! Сколько в романе эллинов? Ни одного! А вот чёртовых иудеев — сразу два, то есть ровно на два больше, чем надо!
Почему же старый доцент Артамонов с такой уверенностью отсылает его к евреям? «Им должно понравиться!» Это попросту несправедливо! Роман писался вовсе не для евреев!..
Эти горькие сомнения мучили Юрия Андреевича в течение нескольких недель, так что он почти не обращал внимания на происходящее вокруг.
Мигулёв избавился от него уже на следующий день после разговора с доцентом — просто сунул в карман случайно встреченному на улице бывшему зеку, знакомому по Карлагу. Знакомый полистал-полистал, да и передал томик дальше, кому-то другому.
Поглощённый своими проблемами, Юрий Андреевич не всматривался в лица новых хозяев. Да он и не считал их хозяевами. Его просто перекидывали из рук в руки, как бездомную дорожную проститутку, кочующую из кабины в кабину — без любви, без тепла, без собственного угла, куда можно было бы вернуться, чтобы перевести дух.
Даже у зачитанной библиотечной книги есть своё законное место на полке, есть формуляр, есть строка в каталоге — её и ничья другая. Он же пребывал в постоянном движении, в принципиально временных, не предназначенных для отдыха обиталищах: в карманах вместе с табачными крошками и трамвайными билетами, в набитых чёрт знает чем дамских сумочках, под подушками и матрацами, в выдвижных ящиках и бельевых корзинах…
Теперь Юрий Андреевич старался не вслушиваться в читательские мнения на свой счёт — они лишь усугубляли степень его обиды. Особенно удручали похвалы, которые обычно выглядели хуже ругани, поскольку сразу сворачивали на посторонние темы, не имевшие никакого отношения к литературе, — на скандал, на политику, на «борьбу с властями».
Борьба с властями… — надо же придумать такое! Он в жизни не боролся и не собирался бороться ни с какими властями — зачем же его силой и обманом сделали символом этой бессмысленной, бесполезной возни?! Зачем его, всегда ненавидевшего шумиху — даже шумиху успеха — превратили в позорную притчу на устах у всех?
Так ли уж много ему требовалось, в самом-то деле? Всего лишь крошечку искренней теплоты, участия, живого чувства… Увы, Юрий Андреевич уже не надеялся, что кто-то влюбится в него или заплачет над его судьбой, или хотя бы чуть-чуть пожалеет, как это сплошь и рядом случается с героями других, куда менее известных романов и пьес. Неужели он действительно настолько бесцветен, что не задевает ничьей душевной струны?
Потеряв счёт времени, Юрий Андреевич уныло ждал конца; в самом деле, сколько может протянуть в таком беспощадном режиме маленький томик в мягкой обложке, давно уже изношенной, засаленной, измятой?..
Он не сразу обратил внимание на явную перемену в своём положении: теперь Юрия Андреевича почти не прятали, всё чаще и чаще оставляли неприкрытым, передавали друг другу без оглядки, а какой-то студент даже осмелился читать в переполненном метро на глазах у всего вагона! Скорее всего, это свидетельствовало о снижении накала скандальных страстей; видимо, власти наконец осознали, что нет смысла преследовать того, кто даже в мыслях не покушался на их державный авторитет.
(окончание следует)
|
| |
| |
| papyura | Дата: Суббота, 20.03.2021, 08:17 | Сообщение # 527 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1561
Статус: Offline
| (окончание)
К сожалению, утратив интерес со стороны карательных органов, Юрий Андреевич не приобрёл ничего нового в плане читательского внимания. Хуже того, отныне его пролистывали не столько из любопытства, как раньше, сколько для галочки, как неотъемлемую часть культурного минимума интеллигентской фронды, что и вовсе превращало чтение в удручающе казённый, школьный процесс.
Поэтому Юрий Андреевич почти обрадовался, когда измочаленная обложка отлетела, сигнализируя о близком конце мучений. К тому времени он уже знал о судьбе, постигшей большую часть тиража: эти томики просто забрасывали в окна автобусов, перевозивших членов советской делегации на Венском фестивале молодёжи и студентов.
Трудно было вообразить более глупый способ...
Все эти книжки пошли впоследствии под нож ещё в невинном, никем не читанном состоянии… Что ж, так они были хотя бы спасены от страданий, которым подвергался сейчас их несчастный одинокий близнец Юрий Андреевич, вынужденный отдуваться едва ли не за всех…
Но предчувствие конца оказалось ошибочным: как выяснилось, пожилой отец очередной хозяйки Юрия Андреевича, выйдя на пенсию, увлёкся переплётным делом.
Скептически осмотрев принесённый дочерью томик, пенсионер сказал, что готов довести его до ума, но с одним условием: книга останется в домашней библиотеке. Ещё не поднаторевший в новом ремесле старик слишком ценил свой труд, чтобы пустить его плоды по чужим рукам. Женщина согласно пожала плечами — когда ей давали распадающегося на куски Юрия Андреевича, речи о возврате не шло.
Так Юрий Андреевич нежданно-негаданно обрёл дом.
И пусть причиной тому стали не его предположительно бесцветные личные качества, а любительский неумелый переплёт, факт оставался фактом: впервые в жизни окрепший и даже как будто помолодевший Юрий Андреевич стоял на полке в ряду других книг!
Да-да, на самой настоящей книжной полке в настоящем книжном шкафу, бок о бок с синеньким собранием сочинений Чехова, тяжеловесным Шекспиром в желтоватой суперобложке и чёрно-красно-золотыми томами неизвестного Юрию Андреевичу, но наверняка чрезвычайно солидного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.
Юрия Андреевича не очень огорчало, что пенсионер и его дочь не торопились познакомиться с ним поближе посредством чтения. Первого он интересовал исключительно как объект для переплёта; вторая, школьная учительница русского и литературы, была до смерти задёргана проверкой тетрадей, подготовкой к урокам и нелёгким бытом матери-одиночки. Ну и что?
Глаза б его не видели этих читателей! Теперь Юрий Андреевич наслаждался совсем другими вещами: долгожданным отдыхом, солидным статусом и восхитительным духом книжного шкафа — запахом типографии, пыли, кожи и сухого картона.
Наконец у хозяйки выдался относительно свободный вечер, и она, укрывшись пледом, улеглась с книгой на диван под незатейливым светильником чешского стекла, именуемым ещё отвратительно бранным словом «бра».
Как и ожидал Юрий Андреевич, интерес читательницы угасал с каждой страницей; час спустя она зевнула и перескочила прямиком в конец книги, к стихам.
Нужно сказать, что Юрий Андреевич не любил эту часть томика. В романе утверждалось, что автором этих двух дюжин недюжинных стихотворений был именно он, мало на что претендующий скромняга. Трудно было вообразить большее несоответствие реальному положению дел — ну разве он мог написать такое?
Где-то за год до обретения переплёта Юрий Андреевич узнал, что в Голливуде сняли фильм, где его — некрасивого, курносого, привычно тушующегося человека играл записной обольститель с внешностью неотразимого героя-любовника.
Вот и со стихами выходило примерно то же, только ещё хуже. Ну почему, почему его вечно вынуждали выставлять себя самозванцем — лауреатом, красавцем, поэтом?
Судя по всему, женщина читала эти стихи и раньше — возможно, как и роман.
— Миша! — позвала она. — Иди сюда, мальчик. Послушай, как это хорошо…
Подошёл сын — подросток лет десяти или немного старше.
— Сюда, сюда! — сказала мать, откидывая край пледа.
Мальчик прилёг рядом, прижавшись щекой к её плечу. На тумбочке рядом с диваном негромко тикал будильник, слегка подавленный прихлопнутой ещё утром кнопкой звонка. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись другими. Со сна прожурчала что-то батарея отопления и смолкла, снова погрузившись в дремоту. Чешское бра экономно, по-европейски, освещало страницы, принципиально не размениваясь на плюшевую мглу, свернувшуюся в углах комнаты.
— И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу… — вполголоса читала женщина, и звуки раскачивались на длинных качелях, навешенных на огромные буквы А, и мальчик, смежив веки, завороженно следил за их взлётом, внешне свободным, но на самом деле накрепко скованным непременной обязанностью возвращения в жёсткую рамку строфы.
Снежная тьма за окном, журчание батареи, мягкий плед, ласковый полумрак, неопасные домашние тени на стенах и потолке, мама и её мальчик… — от всего этого веяло таким теплом и уютом, что сердце Юрия Андреевича сжалось от внезапного, незнакомого ощущения счастья.
Именно этого он хотел, об этом мечтал с того самого момента, когда его собственную маму забросали мёрзлой кладбищенской землёй — тогда ему было столько же, сколько этому десятилетнему счастливцу.
Такого вот живого тепла, родства, ласки он ждал от людей всякий раз, когда они брали в руки этот маленький томик, — ждал и наконец дождался. И пускай стихи принадлежали совсем не ему — или, что точнее, не совсем ему — какая разница? Ради таких дорогих минут не возбранялось даже немного сжульничать…
Потом мальчик Миша вырос и уже сам стал снимать Юрия Андреевича с полки. Теперь их двоих навсегда связывал тот незабвенный зимний вечер под пледом и под маминым боком.
На взгляд из книжного шкафа, жизнь текла размеренно и легко, без видимых проблем — ну разве что люди по ту сторону застекленных дверец старели чересчур быстро.
Дед в последние годы стал настоящим профи, мастером своего дела; в итоге он и умер за столом, положив голову на незаконченный заказ. И хотя старик так и не удосужился открыть спасённый им томик на предмет чтения, Юрий Андреевич даже не думал обижаться на него за это: как-никак, именно дед подарил ему вместе с переплётом дом и семью.
Мама-учительница к тому времени вышла на пенсию и на общественных началах работала в библиотеке при местной жилконторе.
Потом Миша привёл жену; Юрий Андреевич одобрил его выбор прежде всего потому, что девушка очень напоминала Мишину мать, которая, кстати говоря, довольно быстро последовала за дедом-переплётчиком, уйдя так же тихо и безропотно, как он, будто боялась обременить домашних неприятными больничными проблемами.
В дом приходили друзья, велись умные разговоры; Юрий Андреевич всегда прислушивался к ним с определённой тревогой. Он по-прежнему входил в список интеллигентского культурного минимума и оттого вынимался из шкафа намного чаще какого-нибудь Шекспира, который, как старая дева, стеснялся неразрезанных страниц во многих своих томах. С одной стороны, подобное внимание льстило Юрию Андреевичу; с другой — он опасался не вернуться домой, к Мише.
С некоторыми книгами это действительно случалось: зачитают и поминай как звали…
Лучше всех ему запомнился Слава Кричман, Мишин друг ещё с института. Запомнился потому, что их последний, самый яростный спор коснулся непосредственно Юрия Андреевича.
— Но зачем? Зачем? — недоуменно мотая головой, вопрошал Миша. — На черта тебе сдалось это крещение? Да ещё и добровольное! Кантонистов крестили силой, другие шли на это ради карьеры… — но добровольно, искренне? Ты ведь в курсе, что по мешумадам принято сидеть шиву, как по покойникам?
— Было принято, — возражал Слава, делая ударение на первом слове. — А теперь никто не сидит. Теперь нас много. По сути, это логичное официальное закрепление уже существующего порядка вещей. Ну какой из меня еврей?
Я родился и живу в русской культуре, в русской традиции, мой язык — русский, мой ассоциативный мир наполнен православными символами… Почему бы тогда не сделать последний шаг? Это выглядит честным признанием реальности, не более того.
«Опять! — с неудовольствием подумал Юрий Андреевич. — Сколько можно обсасывать одну и ту же тему? На все эти вопросы давно дан ясный недвусмысленный ответ: евреи должны исчезнуть, раствориться… Странно, что Миша возражает…»
— Это подлость, — негромко проговорил Миша. — Я могу понять твоё желание забыть, что они делали с нами на протяжении столетий: страшная память о таких муках не каждому под силу. С чем я никак не могу смириться, так это с переходом на сторону мучителей.
Слава возмущенно фыркнул.
— Подлость? Подлость? Да вот же твой любимый поэт… пишет… где это?..
Он шагнул к шкафу и, скользнув взглядом по корешкам, вытащил Юрия Андреевича на свет Божий.
— Где же это… а, вот! Слушай! «В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чём не повинных стариков, женщин и детей… Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира…»
Слава захлопнул томик и торжествующе потряс им в воздухе. — Ну? Что скажешь?
— Что скажу? — усмехнулся Миша. — Что скажу я, не так уж и важно. Важно, что говорят твои новые единоверцы. «Жид крещёный, что вор прощённый» — слыхал такое?
Слава всплеснул руками:
— Ну вот! Теперь ты говоришь устами черносотенцев! Почему я должен ориентироваться на эту мразь, а не на нормальных культурных людей?
— Ориентируйся на историю. Если она чему-то и учит, так это тому, что любая попытка, как ты говоришь, «раствориться» приводила к ещё большей волне погромов. А что касается мрази… Мразь говорит открыто, а культурная публика — шепотком, среди своих, в частных письмах. Ещё неизвестно, что хуже.
— История меняется, это факт, — возразил Слава. — И публика меняется тоже. И вообще, это вопрос интеллектуальной честности. Человек должен делать то, что кажется ему правильным, и не поддаваться давлению других. Какая разница, кто что говорит? — он снова сильно потряс томиком, едва не вытряхнув оттуда Юрия Андреевича. — Вот он слушал только свою совесть. И совесть привела его к христианству. На каком основании ты называешь этот выбор подлостью?
Миша молчал. Юрий Андреевич неловко ежился в руке Кричмана. Ему хотелось назад, в шкаф, к Чехову и Шекспиру, подальше от этого крайне неприятного спора, от вдруг нахлынувших воспоминаний о прежней безумной мягко-обложной, жестко-облыжной жизни. Доцента Артамонова, наверно, уже нет в живых; как он сказал тогда Мигулёву? «Отдай эту книгу евреям, им понравится…» — что-то в этом духе. И вот он, результат: Юрий Андреевич и в самом деле прижился у них, у евреев. Прижился не по своему выбору — такова была воля судьбы, пославшей ему старика-переплетчика.
В какой-то степени это извиняло Юрия Андреевича. Он и в дальнейшем, как мог, старался игнорировать приметы огорчительного еврейства приютившей его семьи — благо, таковых было совсем немного — ну, разве что у деда, который любил напевать за работой старые песенки на идише. Он и переплётным-то делом увлекся не просто так, а в память о своей семье, в течение нескольких поколений державшей такую мастерскую в еврейском городе Проскурове.
Ну так что? Проскуров давно уже перестал быть еврейским; теперь он назывался Хмельницким, и это переименование лучше всего отражало необходимость забыть, исчезнуть, раствориться. В конце концов, Мишина мама учила детей не Шолом-Алейхему или… кто там ещё у них был?.. — а Пушкину и Толстому. А Миша и вовсе был обычным школьником, студентом, инженером, ничем не отличавшимся от миллионов других, русских людей. Откуда же, из каких тёмных омутов всплыли теперь эти странные слова, значения которых Юрий Андреевич не знал, но при этом нисколько не сомневался в их пагубном, чуждом происхождении. «Мешумад», «шива»… — да, это явно не на санскрите…
— Пришёл к христианству?.. — задумчиво, без прежней запальчивости, проговорил Миша. — Скорее, к тому, что он называл христианством. Перечитай его стихи, Слава. Ну что там от православия, кроме частично схожего набора слов? Ни следа от мутного гностического дуализма, от дьявола и его искушений, от всех этих мучеников, раскаяний, отпущения грехов, иконопоклонства и прочей лабуды, составляющей сердцевину твоей новой религии.
Есть идея любви, но главное — идея всеобщности. Его мир огромен и неделим: природа, предметы, люди — всё объединено в одном гигантском божественном облаке. Если и есть тут христианство, то лишь экуменическое, да и это вряд ли. Потому что неделимость мира — идея чисто еврейская, ещё в Моисеевых заповедях закреплённая. И креста, в отличие от тебя, он на шею не вешал. Так что прибереги звание подлеца для реальных мешумадов…
— Боже, что он несёт… — в ужасе прошептал Юрий Андреевич.
Слава повернулся, чтобы вернуть томик на полку. Рука его заметно подрагивала, так что в щель между Чеховым и Шекспиром Юрий Андреевич протиснулся лишь с третьей попытки.
Больше он Кричмана не видел, а неприятный разговор постарался забыть, что удалось довольно легко из-за начавшейся вскоре неразберихи, связанной с переездом Мишиной семьи на другую квартиру.
Переезд — дело серьёзное не только для людей, но и для книг. Как объяснил Юрию Андреевичу его бывалый сосед, обитатель синего томика Иван Петрович Войницкий, только перед переездом хозяевам библиотек приходит в голову шальная мысль перебрать содержимое книжных шкафов на предмет обнаружения «лишнего». Последнее слово склонный к меланхолии Иван Петрович произносил с особенно горестной интонацией.
— Лишнего! — говорил он, добавляя к горечи ещё и привкус возмущения. — Как будто книги бывают лишними… Так или иначе, Юрий Андреевич, смею вас уверить, что на новом месте мы не увидим значительную часть наших нынешних товарищей по шкафу. Если сами при этом уцелеем. Да-да, не удивляйтесь: сейчас все должны чувствовать себя в опасности. Кроме, конечно, обладателей самых красивых корешков…
И Войницкий со значением косился в сторону роскошных суперобложек Шекспира, которого презирал за излишнюю плодовитость.
Так оно и случилось; из довольно объёмистой семейной библиотеки хозяева упаковали в дорогу не больше трёх сотен томов. Остальное распродали или раздарили, включая, кстати, и Шекспира — так что в этой части своего предсказания Иван Петрович ошибся.
Зато Юрия Андреевича, к его радости, уложили в картонную коробку вместе с Войницким, который, тем не менее, продолжал недовольно ворчать.
— В коробки-то мы попали, Юрий Андреевич, — говорил он, саркастически, — да вот когда из них выберемся? После переезда книги распаковывают в самую последнюю очередь. Сначала всегда берутся за кухню, а пища духовная — шут с ней! Душа — не желудок, душа подождет… Эх, недотёпы…
Но даже завзятый пессимист Иван Петрович не мог предположить, как долго им выпадет кантоваться в этой чёртовой картонке из-под хозяйственного мыла, проложенной со всех сторон газетой от сырости и перевязанной крест-накрест крепкой бельевой верёвкой.
Сначала они дурели от тряски и качки, от грубых грузчиков, от жёстких рук и тугих ремней. Потом целую вечность ждали перемен и мечтали о новом шкафе — пахнущем свежими досками, лаком и морилкой — взамен надоевшего старого, скрипучего, щелястого, изъеденного жучками. Затем, потеряв счёт месяцам и годам, впали в анабиоз и уже не думали ни о чём; лишь один Войницкий время от времени встрепенувшись, бормотал своё унылое «Мы отдохнём… мы отдохнём…», как будто кто-то здесь действительно нуждался в отдыхе, а не в избавлении.
И вот оно пришло — внезапно, как заново обретённая жизнь.
Пали застарелые оковы бельевых верёвок, рухнули гофрированные стены темниц, слетели к чёртовой матери пожелтевшие газетные покровы. Знакомые Мишины руки подняли Юрия Андреевича из пучины отчаяния, вынесли на свет дня — такого ослепительного, что пришлось ждать, пока привыкнут глаза. За прошедшие годы хозяин сильно изменился, постарел, но в ладонях его ощущалось прежнее тепло, идущее прямиком оттуда — с памятного вечера на диване под боком у мамы, под пледом и под светильником чешского стекла.
— Ну что, заждались? — ласково сказал Миша, обращаясь ко всем книгам сразу. — Пока то да сё… Только сейчас и собрались шкаф заказать. Сами понимаете — переезд.
Юрий Андреевич перевёл взгляд за окно, где сияло непривычно синее и непривычно высокое, без единого облачка небо. Дом стоял на склоне горы; под ним виднелись городские районы, разбросанные между холмами, подобно выстроившимся перед большим сражением гренадёрским полкам. А ещё дальше, ближе к горизонту, блестел золотой купол — как тогда, возле совсем другого окна, в самом начале жизни.
«Нет, это не Исаакий, — подумал Юрий Андреевич. — И небо другое. И дома какие-то слишком белые. Впрочем, такое солнце что угодно выбелит. И чего-то явно не хватает… Вот только чего?»
Не хватало реки.
Все знакомые Юрию Андреевичу города стояли на берегах рек. Впрочем, как заметил Иван Петрович, шут с ней, с рекой, главное, что был шкаф — именно такой, о каком мечталось: новый, пахнущий свежестью, с крепкими прямыми полками и застеклёнными дверцами. Они снова были вместе, бок о бок, спаянные перенесёнными трудностями и гордые ощущением избранности. Хотя, если честно, иногда Юрий Андреевич скучал по прежним товарищам — даже по высокомерному Шекспиру: в его отсутствие не над кем стало посмеиваться из-за неразрезанных страниц…
Со временем он обратил внимание и на другую деталь: шкаф теперь почти не открывали. Оставалось заключить, что Юрий Андреевич, как и все его однополчане, то есть соседи по полкам, отчего-то выпали не только из пресловутого культурного интеллигентского минимума, но и из обычной школьной программы.
Это ещё можно было пережить — куда больше Юрия Андреевича беспокоило другое: впервые подмеченные им признаки Мишиной старости.
К сожалению, люди недолговечны; зато книгам назначено жить намного дольше, переходя в семье от поколения к поколению.
В этом не было ничего из ряда вон выходящего: умер дед-переплётчик, за ним — Мишина мама, скоро настанет и черед Миши.
Другое дело, что так же — от поколения к поколению должно передаваться и самое важное: живой контакт между человеком и книгой, их взаимное тепло, участие, сплетенье душ, судьбы сплетенье… И всего этого можно добиться лишь одним способом: сняв книгу с полки. Снять книгу с полки, открыть её в нужном месте и, откинув край пледа, позвать ребенка:
— Иди сюда, мальчик…
Чтобы запомнил этот вечер на всю жизнь, чтобы вернул его потом со своим сыном, со своей дочерью. В теории это казалось Юрию Андреевичу необыкновенно простым. Вот ведь его томик — здесь, на полке, всегда под рукой, всегда готовый раскрыться на любой странице. А вечер… неужели трудно найти хотя бы один, подходящий? В году их аж триста шестьдесят пять, выбирай по вкусу.
Но это только в теории. На практике же получилось, что из-за проклятого переезда Миша упустил драгоценное время. Дочка выросла, вышла замуж и теперь оставалось рассчитывать только на внуков.
Внуки — два сорванца-погодка — жили в другой квартире, но часто навещали Мишу. В стёклах книжного шкафа то и дело мелькали отражения их постоянно улыбающихся физиономий. Мальчишки переговаривались, вернее, трещали без умолку на каком-то тарабарском наречии. Дед отвечал им по-русски, что позволило Юрию Андреевичу спустя пять-шесть лет освоить тарабарщину настолько, чтобы через пень-колоду понимать почти всё сказанное.
Снег в этом городе выпадал редко, но однажды выдался по-настоящему зимний вечер. В новостях говорили об огромных по здешним понятиям сугробах, о заваленных дорогах и остановившемся транспорте. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись новыми, и это живо напомнило Юрию Андреевичу другие времена и другие комнаты — с журчащей батареей, клетчатым пледом и экономным светильником со странным именем «бра».
Как видно, и Мишу посетили те же самые мысли, потому что он, постояв у окна, вдруг обернулся и взглянул в сторону шкафа. Сердце Юрия Андреевича забилось сильнее.
«Ну же! — почти закричал он. — Давай! Сейчас самое время!»
И действительно, хозяин снял с полки томик в дедовском переплёте и, присев на диван, позвал внуков. Мальчишки прибежали немедленно: в квартире было прохладно, а места под боком у деда обещали и уют, и ласку.
— Послушайте, как это хорошо, — сказал Миша и стал читать, вполголоса, как некогда мама: — «Мело, мело по всей земле…»
— Что такое «мило»? — прервал его младший внук, Дани.
— Фамилия, — авторитетно ответил старший, Амит. — У меня в классе есть один такой: Рами Мило.
— Он что, русский? — поднял брови Дани.
— Да какое там русский! — отмахнулся брат. — Мама у него марокканка, а папа поляк.
— Э, ребята, так не пойдет, — вмешался Миша. — Правильно не «русский», «марокканец» и «поляк», а «выходец из России», «выходец из Марокко»… и так далее.
— Это слишком длинно, саба, — снисходительно заметил Дани. — Проще так, как мы.
— Саба прав! — оборвал его Амит. Исключительное право противоречить деду принадлежало здесь ему и только ему. — Наша учительница говорит, что скоро вообще не будет никаких «русских» и «марокканцев».
Дани недоверчиво усмехнулся:
— Куда же они денутся?
— Исчезнут. Растворятся… — Амит для убедительности прищёлкнул пальцами. — Вот так: растворятся без следа. И останутся одни евреи. Правда, саба?
Миша захлопнул книгу.
— Правда, — сказал он, прижимая к себе обоих внуков. — Растворятся без следа. Где-то я уже слышал эти слова…
— От Малки? — догадался Амит.
— От какой Малки?
— Ну, от моей учительницы…
— Ах, да. Нет, не от Малки, — рассмеялся Миша. — Что ничуть не отменяет её оглушительную правоту.
Кто тут хочет пиццу?..
Сопровождаемый восторженными воплями мальчишек, он вернул томик на полку и пошёл доставать из холодильника пиццу. Юрий Андреевич, не веря своим ушам, ошеломленно взирал на происходящее сквозь стеклянную дверцу шкафа. Неужели это всё? Почему столь многообещающий контакт завершился, едва начавшись, на первой же строчке, неправильно к тому же понятой? Ерунда какая-то… А уж замечания по поводу растворения русских и вовсе ни в какие ворота не лезли. В честь чего это он, Юрий Андреевич, должен где-то растворяться? А как же все мысли веков, все мечты, все миры, всё будущее галерей и музеев? Куда денется это богатство, где пропадёт?..
Хотя, если подойти к вопросу по-философски, то нельзя не признать определённую правоту учительницы Малки. В конце концов, Саша Гордон и Лара говорили ровно то же самое. Правда, они полагали, что растворятся евреи, а останутся русские, в то время как новая интерпретация расставляла сливаемые воедино народы в обратном порядке. Но разве перемена мест слагаемых может повлиять на сумму? Ведь главной целью по-прежнему остается глобальное единство людей, их универсальная культурная основа, выход за рамки узколобой национальной обособленности. Если нет ни эллина, ни иудея, ни русского, то неважно и каким словом назовут этот результирующий всеобщий народ — хоть евреями, хоть зулусами, хоть чёртом в ступе. Важен сам процесс слияния, растворения — разве не так?
Утомившись от судьбоносных раздумий, Юрий Андреевич решил поделиться своими сомнениями со старинным приятелем из синенького томика. Выслушав соседа, Иван Петрович отрицательно покачал головой:
— Растворяться? В евреях? Ну, это вы хватили через край, батенька. Вот уж чего не хотелось бы.
— Почему, Иван Петрович? Вы же сами как-то замечали, что в России только они и читают. Что, не будь этих еврейских юношей и девушек, пришлось бы повсюду закрывать библиотеки…
Войницкий пожал плечами.
— Библиотеки библиотеками, а табачок всё-таки врозь. Помимо всего прочего, они ведь так чудовищно безвкусны, Юрий Андреевич… Ну посудите сами: разве не оскорбляют ваше эстетическое чувство все эти… — он состроил уморительную гримасу и прошепелявил, довольно точно копируя нелепый еврейский акцент: — …все эти фармачефты, цестные еврейчики и прочая шволочь?.. А эта их ужасная страсть к наживе? Копят и сами не знают, для чего копят. Нет уж, вы как хотите, а я в такой мерзости растворяться не буду.
На том пока и порешили.
За стеклянными дверцами снова потекла размеренная плавная жизнь — во всяком случае, так казалось обитателям шкафа, который теперь открывался лишь на предмет смахивания пыли.
Иссушающая жара сменялась холодными ливнями, а ливни — жарой. Ничего-ничего, успокаивал себя Юрий Андреевич. Удел домашней книги — ждать своего часа. Как говорит Иван Петрович, мы ещё увидим небо в алмазах…
Предсказания Войницкого обычно сбывались, хотя и не полностью. Так произошло и на этот раз. Как-то утром в комнату вошли Амит и Дани, превратившиеся за это время в здоровенных красавцев-мужчин, очень похожих на исполнителя роли Юрия Андреевича в голливудском кино. Младший был в армейской форме с тремя полосками на погонах.
— Сабы уже нету, — сказал он, явно продолжая начатый раньше разговор, — а кроме него кому этот хлам нужен…
— Может, всё-таки библиотека возьмет? — спросил старший.
— Я узнавал, — со вздохом ответил Дани. — Ни в какую. Говорят, место в хранилище кончилось. Причём, везде и всюду. Переводят на электронные носители.
— Ну тогда… — Амит распахнул дверцы шкафа. — Я беру эту полку, ты следующую…
— Похоже, опять переезд, — озабоченно шепнул на ухо Юрию Андреевичу проснувшийся от внезапной качки Иван Петрович. — Вот ведь недотёпы…
Десять минут спустя все обитатели шкафа уже стояли несколькими высокими стопками на асфальте по соседству с какими-то дурно пахнущими зелеными ящиками, а над ними вместо верхней полки сияло бесконечно глубокое голубое небо — всё в алмазах, как и обещал Войницкий. Из-за ящика вышла поджарая остромордая кошка, понюхала книги и чихнула.
— А ведь это, похоже, помойка, Иван Петрович… — сказал Юрий Андреевич.
— Глупости, — сердито отвечал сосед. — Говорю вам, переезд. Причём, слава Богу, близкий, поэтому и в коробки не упаковали. Сейчас подъедет машина и погрузят, вот увидите.
Машина действительно подъехала — огромная, с ковшом позади и двумя смуглыми поджарыми парнями, повадкой напоминающими давешнюю кошку. Спрыгнув с подножек, парни споро покидали книги в грязную прорву ковша. Затем туда же полетели пластиковые мешки с мусором.
— Что это… — задыхаясь от вони, пролепетал Юрий Андреевич. — Зачем?
Мусоровоз тронулся с места и тут же, устрашающе скрежеща, пришёл в движение ковш. Пакеты лопнули; в лицо Юрию Андреевичу плеснуло омерзительной гнилью. Надвинулась стальная плита, прессуя содержимое камеры в единый неразделимый мусорный ком.
Вокруг пыхтела гидравлика, скрипели, лопаясь, книжные переплёты, страницы сминались в липкую бумажную массу; растворяясь в ней, бесследно исчезая, мелькнула страшно расчленённая фигура Войницкого, а следом — все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затеплённых свечек, все цепи, всё великолепье цветной мишуры, все праздники, все золотые…
«Вот и растворились…» — подумал Юрий Андреевич и перестал быть.
Бейт-Арье, сентябрь 2017
|
| |
| |
| Kiwa | Дата: Четверг, 01.04.2021, 05:20 | Сообщение # 528 |
 настоящий друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 683
Статус: Offline
| Пимпочка
В конце 90-х одна симпатичная девушка из глухой тайги добралась до Транссиба где-то в районе Забайкалья с целью подсесть на поезд, идущий во Владивосток.
Проводница подошедшего поезда объяснила ей, что свободных мест нет, кроме одного в двухместном люксе. Но что порядочной девушке в это купе лучше не садиться.
— А что там не так в этом купе? — испуганно спросила девушка.
— Там грязный иностранец. Страшный такой, огромный, небритый, немытый, сумасшедший, наверное.
Далее со слов проводницы выходило, что это грязный иностранец во всех смыслах:
— Меня в туалет пытался затащить вместе с собой. Потом парня из туалета не выпускал, хотел к нему туда вломиться. Руками размахивает, лопочет чего-то, по-русски ни хрена не понимает. Глаза ещё такие голодные, злобные. Прохода никому возле туалета не давал. Пока я с ним хорошенько не побеседовала.
Не надо тебе к нему в купе соваться!
Но девушке очень надо было ехать. И она пошла всё-таки в купе к этому страшному иностранцу.
На его счастье, она говорила по-английски. Иностранец, действительно огромный небритый мужик, вежливо привстал, чуть не вытеснив её этим обратно из купе, поздоровался, жалобно показал на свою щетину, грязную рубашку, и сказал со вздохом:
— Sorry! No water!
— Как это нет воды? — изумилась девушка, — А в туалете?
— Да был я там! Все краны провертел, все ручки передёргал — нет воды!
Я и сам вижу, народ идёт в туалет с полотенцами через плечо, возвращаются оттуда бритые и чистые. Пытался спросить, в чём дело, а меня все пугаются!
— А пимпочку снизу нажимали? — поинтересовалась девушка.
— Какую пимпочку?!!!
Вот тут всё и стало ясно...
Выяснилось и то, почему у американца глаза такие голодные.
Его кредитную карточку вагон-ресторан не принимал. Сибирские полустанки тоже не были уставлены рядами банкоматов. А ехал он аж с Санкт-Петербурга. Мужик немелкий, цены в ресторане кусачие, всю наличность он с аппетитом проел ещё до Байкала.
На крупных станциях в поисках банкомата отлучаться боялся — сколько будет стоять поезд, спросить было не у кого...
Через минуту пассажиры с интересом наблюдали, как дверь зловещего купе раскрылась. Отважная девушка повела вдруг присмиревшего иностранца по коридору и за ними обоими захлопнулась дверь туалета.
Ещё через час страшный иностранец, в миру американский профессор, доктор биологических наук, специалист по проектному менеджменту, герой антарктических полярных экспедиций Джон Маклин Крум был помыт, побрит, одет в свежую рубашку, накормлен, весь сиял и любезно общался с соседями по вагону через переводчицу.
В чём была причина его предыдущего безобразного поведения, он объяснять пассажирам не стал.
На девушку весь вагон глядел восхищённо, как на великую укротительницу иностранцев.
Так Джон Крум встретил свою будущую жену.
Странная фраза «Did you press the pimpochka from the down?» стала их семейным преданием!
Валерий Плоткин
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Вторник, 06.04.2021, 03:16 | Сообщение # 529 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1459
Статус: Offline
| Маран из Ленинграда
Где-то в начале пятидесятых годов гражданка Красная вступила в единоборство с товарищем Сталиным.
Товарищ Сталин об этом не знал.
Гражданка была из тех русских людей, которые любили евреев, даже носатых, даже работавших в торговле, даже с дачами.
Сама Красная жила в полуподвале с видом на ноги проходящих. Даже справедливое осуждение еврея — ведь случается и такое — вызывало в сердце гражданки Красной глубокое возмущение. Она считала, что после того, что произошло, судить евреев вообще нельзя. Ни за что! Они настрадались навсегда.
Генералиссимус придерживался другого мнения.
Красная хотела выделить евреев в касту неприкасаемых — она плохо разбиралась в этнических проблемах индийского общества — она была паспортисткой — и неприкосновенные были для неё святыми. Любой еврей был для неё святой. Даже с дачей…
Гражданка Красная была последовательницей дочери фараона Марнепта Второго. Купаясь в Ниле в древние времена, дочь нашла в корзине, в тростнике, младенца Моисея — и спасла еврейский народ.
Красная была дочерью пастуха, никогда не видела Нила, купалась в общественной бане в Щербаковском переулке, ела капусту с картошкой в мундире — и спасала евреев.
Паспортистка Красная спасала еврейский народ от генералиссимуса Сталина.
В последний год своей жизни генералиссимус, будучи выдающимся специалистом в национальном вопросе, задумал решить еврейский вопрос — в Сибири началось широкое строительство бараков, и не в чём стало перевозить скот — все вагоны были отобраны для транспортировки евреев, что вызвало очередную волну антисемитизма.
— Опять всё евреям, — говорила на коммунальной кухне необъятная Настя.
Коммунальные кухни великого города были недовольны евреями.
Короче, генералиссимус решил уничтожить еврейский народ, паспортистка — спасти…
Мне исполнилось шестнадцать лет. Я должен был получить паспорт. Первым пунктом в паспорте была фамилия, пятым — национальность. Я был евреем.
Гражданка Красная решила записать меня русским.
Это был её метод.
Во время блокады в разорённой квартире профессора Лурье она нашла изодранную книгу с вырванными страницами. Она читала эту книгу по ночам, и горькие слезы лились в полуподвале — книга была про испанских евреев, про их изгнание.
Из этой книги гражданка Красная извлекла одно — чтобы спастись, еврею надо было сменить религию. Стать мараном.
Паспортистка Красная не могла менять религию — трудно менять то, что было отменено. Она меняла национальность и пекла «маранов».
По Куйбышевскому району Ленинграда бегало уже семь свежеиспеченных маранов-евреев, записанных русским, узбеком, украинцем, казахом и даже чехословаком.
Она не знала, что нет такой нации — она знала, что чехословаков сегодня не убивают…
День, когда она создавала нового марана, был для неё праздником. Она надевала лучшее платье — трофейный костюмчик из Эберсвальде, оренбургский платок, янтарные бусы и душилась самыми популярными в те годы духами «Красная Москва».
Когда сослуживцы интересовались, что это сегодня за праздник, она скромно отвечала: «День рождения». Чей — она не уточняла…
Ничего этого я не знал. Я шёл за паспортом по набережной Фонтанки. Был ноябрь, падал мокрый снег, кони на Аничковом мосту погрустнели. Люди скользили и падали, из булочной несло хлебом, инвалид просил на пиво.
Я шёл за паспортом, легко и беззаботно, ничуть не задумываясь, надо ли становиться гражданином этой страны, нужна ли она еврею и нужны ли евреи ей.
Я был в возрасте, когда думы светлы, как тополь в сентябре…
В конторе было натоплено, на полу таял нанесённый валенками снег, пахло сосисками.
Я вошёл в комнату — за столом сидела огромная женщина в оренбургском платке, с янтарным ожерельем вокруг крупной шеи, волосы её были русые, зачесанные назад, в клубок.
Запах «Красной Москвы» кружил голову.
Она сурово посмотрела на меня.
— Почему ты так долго не приходил за паспортом?
— Было много уроков, — соврал я.
— Держи, — она протянула мне зелёную книжицу. Оттуда глядела моя фотография, изуродованная фотографом. Но вздрогнул я не от этого — в графе национальность стояло «русский».
— Простите, — сказал я, — я — еврей.
— Иди, иди, — подтолкнула она, — у меня много работы.
— Я еврей, — повторил я, — а здесь написано «русский». Вы ошиблись.
— Я лучше знаю, кто ты, — ответила она и открыла дверь, — следущий!
Я захлопнул двери:
— Исправьте, — сказал я. — Пока вы не исправите — я не уйду!
Я сел. Она тоже. Мы смотрели друг на друга.
— Ну какой ты еврей, — наконец произнесла она, — языка своего ты не знаешь, истории не знаешь, религии не нюхал — одно слово, что еврей. Вот скажи, к примеру, кто такие мараны?
Я не знал.
— А хочешь записаться евреем, — сказала она, — держи паспорт и давай к дому!
Я сидел, не вставая.
— Тебе хочется в Сибирь, — сказала она, — с твоими лёгкими?
— Исправьте, — повторил я, — мне надо готовить математику.
— Чтобы считать вагоны?!
— Какие вагоны? — не понял я.
— Которые вас уже ждут! Или ты о них ничего не слышал?
Я слышал об этих вагонах, они должны были отвезти нас в снега, в мороз…
— Я не запишусь русским, — ответил я.
— Почему? Ты их не любишь?
— Я их люблю, — ответил я.
— Чего ж ты упрямишься?
— Я — еврей, — повторил я.
— Козёл ты, — сказала она, — не хочешь русским — могу записать татарином, грузином. Грузины — чудесная нация, не антисемиты. Никогда не преследовали евреев. Поют «Сулико».
Она затянула.
— Запишите меня евреем, — повторил я.
Она встала.
— Разговор окончен, — она хлопнула ящиком стола, — евреем я тебя не запишу.
— Вы антисемитка? — спросил я.
Она дала мне легкую затрещину:
— Паспорт берешь, козёл?
— Нет, — я покачал головой.
— Тогда давай его сюда, — она взяла паспорт и спрятала его в стол, — скажи, чтоб зашли родители…
Когда я вышел из конторы, было уже темно — были почти самые короткие дни — валил снег, забивал глаза, буксовали троллейбусы…
До сих пор я не понимаю, почему я хотел записаться евреем. Моим языком был русский, героями — русские — Наташа, Онегин, Пугачев, никакой другой литературы, кроме русской, я не знал и не обожал. Я спорил по-русски, плакал по-русски и по-русски признавался в любви. Я любил русских девочек, русские песни и русский мат. Ничего еврейского я не знал. Я не знал ничего о красавице Эстер, о прекрасной Юдифи, я не знал, что есть герои-евреи, что были братья Маккавеи и сын звезды — Бар-Кохба, и восстание в гетто Варшавы. Слово Иордан ничего не вызывало во мне. Мне нравилось, когда говорили, что я вылитый русский, что у меня глаза Есенина, что у меня широкая русская душа — потому что какой ширины еврейская душа — я не знал.
Дружил я с русскими, вместе с ними бегал по крышам, играл в деньги и был чрезвычайно горд, когда Колюня, вор районного значения, — мне сказал:
— Я тебе, как русскому, признаюсь — мы вчера столовку ограбили…
Я не хотел знать, кто я! Не хотел слышать! Имя Абрам вызывало хохот, Сарра — стыд, и я гордился своим прямым носом, именем Петр и чистым произношением буквы «р»…
И хотел записаться евреем!!!
Это было чистое упрямство, голое упрямство горного козла…
— Вы так думаете, — сказал мне много лет спустя рабби Гершель из Цфата, — это Тора, Тора вас вела.
— Я не знал Торы, рабби.
— Вы ошибаетесь, друг мой. Вы её прекрасно знали.
— Рабби, — поклялся я, — за всю свою жизнь я не прочёл и строчки Торы.
— А чем вы занимались до рождения?
— До рождения, ребе?!!
Гершель покачал головой. Он был красив. Предки его писали «Каббалу».
— Зародыш, — сказал ребе, — в чреве матери напоминает книгу, прекрасную книгу. Он ест, что ест его мать, пьёт, что пьёт его мать. Над его головой свет, он смотрит и видит весь мир. Нет более счастливых дней для человека, чем дни в чреве матери его — он изучает Тору.
И когда он готов покинуть чрево — является Ангел, ударяет его и заставляет забыть Тору, всю Тору.
Что, по-вашему, означает эта выемка? — и дотронулся до ложбинки на верхней губе, — что, по-вашему, это означает? Это знак, друг мой, знак, оставленный ангелом…
Солнце садилось, и Гершель пошёл в синагогу…
Но тогда я этого не знал, ничего не знал, я ещё не вкусил от древа познания — я был счастливым человеком. И упрямым. Не знаю, всосал ли я с молоком матери Тору, но упрямство — наверняка.
…Дома была мама. Она пекла пирожки с капустой. По случаю паспорта. Она пекла и что-то напевала.
— Ну, где наш новый паспорт? — спросила она.
— В ЖАКТе, — ответил я.
— Как это?!
— Я не взял его. Меня там записали русским.
— Ну и что? Это же счастье! — вскричала мама, — надо было хватать и бежать!
— Я не возьму его, — повторил я.
Моя умная мама всё поняла. Она села на табурет и положила руки на колени. Пирожки подгорали на чёрной сковороде.
— В этой стране, — сказала мама, — можно прожить без мяса, без ванны, без воздуха, но не без паспорта. Прошу тебя — не разрывай моё сердце, пойди за ним.
— Нет, — ответил я, — я останусь дома и буду есть пирожки.
— Благодари Бога, что тебя записали русским, — сказала она.
— Почему, мама?
— Почему? Да потому, что, если б твой папа был русским, он бы не торчал на вонючем заводе. Он бы, с его головой, был бы профессором, директором или членом-корреспондентом! Если б твой папа не был евреем — он бы был академиком, с его головой, его портрет висел бы на Невском, он бы был в энциклопедии, твой папа, с его головой.
— Я не хочу в энциклопедию, — сказал я.
— Я вижу, — сказала мама, — ты хочешь в Сибирь. Ты хочешь, чтоб тебе всю жизнь совали палки в колёса! Куда ты уедешь на таком велосипеде? Посмотри, куда приехали мы — комната у туалета, окно на свалку, папа, пропахший гудроном. Ты хочешь туда же?!
Я намазал булку маслом, посыпал сверху сахарком и начал жевать.
— Возьми Шапиро, — продолжала мама, — двое детей! Беллочка записана белорусской, Абраша — хохлом! У Рабиновичей все дети казахи. Альперовичи — латыши. Мулька Шмек, сын раввина — калмык. И все довольны, все были согласны! Почему ты упираешься?!
— Не знаю, — ответил я.
— Подумай, — сказала мама, — ты сможешь поступить в университет. На филологический. На философский. В Институт Международных отношений. Будешь послом. В Индии, в Малайе. Я знаю? Станешь русским дипломатом!
— Я хочу быть дипломатом-евреем, — ответил я.
Мама тяжело вздохнула.
— Почему люди хотят совместить несовместимое, — произнесла она. Лёгкий дымок тянулся от пирожков…
Потом пришёл папа. Он снял потёртое кожаное пальто.
— Он не хочет становиться русским, — выпалила мама.
Папа сел на диван и закурил свой «Беломор».
— Ты слышишь, он хочет быть евреем.
Мороз затягивал окно. Папа курил и слушал рассказ мамы. Он улыбнулся, папа. Я тогда не понимал, чему он улыбался, мой папа, который мог быть в энциклопедии.
— Чему ты улыбаешься, хохэм? — спросила мама.
— Я делаю то, что пока не запрещено, — ответил он.
Мама махнула рукой и пошла подогревать вчерашний борщ.
— Я не настаиваю, чтобы ты записался русским, — сказал папа, — или узбеком, или калмыком. Потому что я не уверен, что если все евреи запишутся калмыками — не начнут преследовать калмыков. Я просто размышляю. Я просто думаю, что если б твоя мама не была еврейкой, она б не преподавала идиотам черчение, а с ее головой стала бы Софьей Ковалевской, или мадам Кюри, или Голдой Меир, с её головой. Но я тебе ничего не говорю, ничего. Я тебе не говорю, что мой родной брат — армянин, а сестричка — литовка, и если б наши родители это узнали — они б умерли вторично… Потом папа достал новую папиросу, долго чиркал спичкой, обжёг палец и задымил.
— Ты знаешь, почему Бог не пустил Моисея в Ханаан? — спросил он.
— Нет, — сказал я, — не знаю.
— Потому что Моисей, великий Моисей, однажды, в своей юности, не признался, что он еврей.
Вошла мама с горячей кастрюлей.
— Чему ты учишь ребенка? — сказала она, — вечно болтаешь глупости! Ешь борщ! — Затем она повернулась ко мне, — а ты, завтра, с утра, пойдешь и заберёшь паспорт. Я прошу тебя, будь русским, мне будет легче.
— Нет, — сказал я, — я хочу в Ханаан.
Слезы падали из маминых глаз прямо в горячий борщ.
— Что ты молчишь, хохэм, — повторяла она папе, — что ты молчишь?..
Паспорт я получил. В пятом пункте стояло то, что хотел я.
— Сходи к психиатру, — посоветовала гражданка Красная, вручая его. — Доктор Блох, тоже, кстати, азербайджанец…
Она перестала говорить с папой, считая, что во всем виноват он.
— Ему мало, что он сам еврей, — ворчала она, — такого хлопца губят…
В те дни она работала много, гражданка Красная.
Она засиживалась ночами.
Куда-то торопилась.
Тучи сгущались над Ленинградом.
Евреев вышвыривали с работы, к врачам-евреям не обращались.
В школах, на переменках, евреям устраивали обломы:
— Это вам за то, что вы хотели отравить Сталина.
На нашей коммунальной кухне необъятная Настя часами повествовала о вагонах, где они стоят, какие они и как в них будут перевозить.
— По двести еврейчиков на вагон, — деловито докладывала она и с аппетитом посматривала в сторону нашей комнаты. — Диван я передвину к окну, — мечтала она.
Люди мечтали на коммунальных кухнях великого города.
В воздухе пахло весной и погромом.
И пришёл день, когда гражданку Красную попросили составить списки всех евреев её микрорайона.
— Для отправки в санаторий, — уточнил майор Киселёв.
Гражданка Красная принялась за работу — она старательно печатала на высоком «Ундервуде» имена, отчества и фамилии. И адреса. Мелькали там и Поварской, и Стремянная, и Кузнечный. И, прекрасный Невский промелькнул.
Машинка стучала, стучала.
К утру списки были готовы.
— Кто бы мог подумать, что у нас столько еврейчиков? — пропел майор Киселёв.
— Медлить не стоит, — сказала гражданка Красная, — а то многие из этих подонков могут улизнуть.
— Об этом не беспокойтесь, гражданка Красная, — успокоил майор…
Первой арестовали её — гражданка Красная составила подробные списки всех стукачей, мародёров, грабивших квартиры во время войны, и просто рядовых антисемитов микрорайона. Списки были беспощадны — за единожды произнесенную безобидную «жидовскую морду» вас уже включали в список.
Её посадили в районную кутузку. Допрашивал сам майор Киселёв. Он был беспощаден — в списках он шёл пятым. Была вскрыта незаконная деятельность гражданки Красной по производству маранов.
Все эти казахи, латыши и прочие были пойманы и переведены вновь в лоно иудаизма. Неизвестно, куда б сослали и саму гражданку Красную, если б внезапно не сдох человек, фигурировавший в списке Красной под фамилией Джугашвили.
Её выпустили и даже не выкинули из ЖАКТа, разрешив работать «без права допуска к документам, имеющим графу «национальность».
Жизнь для неё потеряла всякий смысл. Из глаз её ушёл свет, янтарные бусы валялись на подоконнике, «Красную Москву» она отдала дворовому алкоголику Борису.
Вскоре она умерла.
На её похоронах были одни евреи. Они установили ей памятник. На сером камне написано: «Гражданке Красной от маранов Ленинграда»…
А. Шаргородский
|
| |
| |
| Щелкопёр | Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:46 | Сообщение # 530 |
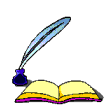 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 324
Статус: Offline
| Последнее, что видел Виктор Петрович Берёзкин, лёжа в больнице, – это вытянувшееся лицо толстой медсестры, судорожно схватившейся за капельницу и случайно её оборвавшей.
И всё, на этом всё.
Дальше он отключился, очутившись на несколько секунд в небытии. Правда, слава богу, это было недолго, и буквально через несколько секунд он оказался за высоким металлическим столом, в той же полосатой пижаме, в которой его и упекли в больницу.
Встряхнув головой, Виктор зажмурился, пытаясь прогнать столь ужасное видение, но, увы, помещение не исчезло, а даже наоборот, прибавило в интерьере. Так напротив появился немолодой мужчина в чистой, но слегка помятой белой рубахе, небрежно открывавшей его крепкую, загорелую шею.
Заметив, что Виктор Петрович удивлённо смотрит ему в глаза, молодой человек улыбнулся и, покосившись на слегка окровавленный бок, аккуратно вытащил неизвестно откуда появившееся полотенце.
— Пора эту медсестру, Таисию Петровну, уже уволить. Смотрите, как она вам стеклом бок задела, ну, когда капельницу ухватила, – тихо сказал он, указывая на причину его беспокойства. – Впрочем, бывало, конечно, и похуже.
— Спасибо, – отрешённо ответил Виктор, прикладывая полотенце к боку.
— Не возражаете, я закурю? Ненавижу, знаете ли, начинать без сигаретки. У нас тут ведь порой и некурящие встречаются. Так что, видит бог, я каждому курильщику рад, – с довольной улыбкой сказал брюнет и, вытащив из кармана пачку сигарет, прикурил одну из них. – Какой же кайф. Хотите затянуться?
— Нет, спасибо. Жена хотела, чтобы я бросил. Так что…
— А ещё она хотела съездить в Прагу с любовником. И это уже нельзя назвать полезной идеей.
— С любовником? – недоумевающе посмотрел на брюнета Берёзкин. Теперь он заострил на нём куда больше внимания, разглядев и длинные красивые брови, и странно изогнутый кверху рот. – Вы вообще кто? Вы из ФСБ?
— Нет, – спокойно сказал мужчина и, откинувшись на стуле, похрустел затёкшей шеей. – Я не из ФСБ.
— А кто вы?
— Видите ли, Берёзкин, учитывая, что сердечный приступ вам больше не грозит, я, пожалуй, отвечу вам сразу и честно. Как-никак, именно этой стратегией вы блистали, занимаясь контрафактом с вашими китайскими деловыми партнёрами.
Я, собственно говоря, чёрт.— Кто? Чёрт? – Виктор Петрович впервые за всё время позволил себе улыбнуться.
— Эх, всё по новой, – с грустью сказал брюнет и, резко подняв руку, лихо сдернул кожу с головы. Под ней оказался чёрный, полностью покрытый чёрной шерстью козёл.
— Как видите, всё весьма натурально.
— Боже, боже, нет! Ааа!!! – закричал, пытаясь обхватить лицо, Берёзкин, но это у него не получилось, так как ни руки, ни ноги его не слушались. Более того, он даже не смог закрыть глаза.
— Зря вы так, – возвращая кожу на прежнее место, заявил брюнет. – Просто я устал от длинных монологов – они неэффективны.
— Где я? – испуганно сказал Виктор Петрович, вжимаясь в кресло.
— Как где? – удивился чёрт. – В аду, конечно. Вы же грешник. Вы много грешили и попали к нам.
— И что теперь?
— Ну, сначала официальная часть, а потом, собственно, типичные будни.
У нас почти всё тоже самое, что и у вас там, на земле. С той лишь разницей, что теперь уж точно навсегда, – улыбнулся брюнет, явно радуясь налаживанию общения.
— Вы будете меня, м-м-м, – Виктор Петрович всё не мог подобрать правильного слова, а точнее, он его знал, но не мог произнести.
Ему казалось, что стоит его назвать, как чёрт тут же ухватится за него и начнёт свои адские процедуры.
— Пытать? – улыбнулся брюнет, и кривая сторона его рта поползла вверх.
— Да, – тихо ответил Виктор Петрович и снова вжался в кресло.
— Ну, это всё преувеличения. Это, знаете ли, церковь на нас наговаривает, у нас здесь всё несколько иначе.
— В смысле – иначе? Вы не пытаете?
— С вашего позволения, – сказал чёрт и вытащил ещё одну сигарету. – Знаете, я никогда не устаю от этого момента. Мне кажется, что это самый лучший момент в моей работе.
— Курение?
— И оно тоже, но больше – объяснение нашей работы, – чёрт притушил окурок. – Видите ли, мы никого, в вашем понимании, не мучаем. Вот смотрите, чем бы вы занимались, попади вы в рай?
— Ну, не знаю, ходил бы, дышал, играл.
— Насколько я понимаю, вы не знаете, чем бы там занимались?
При этих словах Виктор Петрович почувствовал, как по его спине потекла небольшая струйка пота, и что он попадает в какую-то хитрую ловушку, навязанную ему, во-первых, под давлением и страхом, а во-вторых, просто оттого, что он болен и не может правильно соображать. И, тем не менее, сдаваться он не собирался.
— Вечным блаженством.
— Ого как! И что же это конкретно для вас? Ведь, насколько мне известно, блаженство вы испытывали, откровенно бухая и изменяя своей любимой жене.
Именно это вы подразумеваете под блаженством? Ведь так?
Виктор Петрович снова почувствовал, как пот стекает уже к пояснице. Медленно пробираясь по толстому слою жира в трусы, где продолжал доставлять беспокойство.
Чёрт тем временем лишь поглядывал на отлично отполированный ботинок, носком которого он игриво махал из стороны в сторону, явно дожидаясь ответа на поставленный вопрос.
— Нет, почему так. Я бы слушал музыку, общался, ходил.
— Стало быть, ни секса, ни алкоголя, ни отвратных стриптизёрш с вульгарным кружевным нарядом. Я вас правильно понимаю? – ехидно спросил брюнет, всё также не сводя взгляда со своего чёрного ботинка.
— Да.
— Ах, как всё старо, что же вы мне все лжёте, ну хоть бы раз кто-то сказал правду, – задумчиво бросил брюнет, наконец отвлекаясь от носка. – Итак, дело в том, что ничего этого вы бы не делали, так как всю сознательную жизнь стремились к разврату и пьянству. И ничего кроме них не желали. Ну да бог с ним.
— Вы сказали – Бог?
— Ну да, а что такого? У нас тут не тюрьма, можно говорить всё, что угодно, ну в рамках приличного, разумеется. Всё же это ад, а не ваша земная богадельня, – хмыкнул брюнет, раскрывая толстую папку, непонятно как очутившуюся у него в руках – Итак, что у нас тут. В общем, убийств вы не совершали, так – воровство, обман, прелюбодеяния, всё в рамках первой погрешности. А стало быть, в ней вы и останетесь.
— В смысле, останусь?
— Уважаемый Виктор Петрович. Ад – это не то место, что вы привыкли изображать себе в книгах и фильмах. Мы здесь не пытаем людей сковородками и не жарим их на кострах, разве что в отдельных случаях, но вас они не касаются, так как вы не мазохист.
Как вы изволили понять, в раю вам делать абсолютно нечего даже при всём вашем желании, так как там нет ни проституток, ни алкоголя, от которых у вас столько радости.
Им это по статусу не положено, поэтому всё перешло в наши ряды. Формально они вообще этого не держат.
— Вы что, хотите мне дать алкоголь и женщин?
— Да. Впрочем, если вы предпочитаете что-то ещё, то можно и добавить.
— Подождите, вы не лжёте?
— Обижаете, у нас с этим строго. Да и времени нет. Загруженность грешниками крайне велика. Это в раю все отдыхают. Как вы изволили выразиться, ходят, думают, возможно, даже поют...
Мы их мало касаемся, блаженных.
— Но вечные муки…
— Вот теперь я точно удивлён, обычно таких вопросов не задают.
Нет, Виктор Петрович, никому вы со своими пытками не нужны. Да, мы держим грешников, согласен, на то мы и ад. Но формально задача с раем у нас одна. Только там люди, которые сумели обойтись в наслаждении без семи смертных грехов, у нас же те, кто не сумел.
Отсюда и разница, всё крайне просто.
Пытки же – это человеческое больное воображение. Да вы помилуйте, кому же нужны эти пытки? Ради чего? Совершенно глупое занятие. Вы же не тупой человек, зачем все эти экзекуции. Фу, право.
— Стало быть, сейчас я отправлюсь заниматься алкоголем и развратом?
— Да. И так – вечность. Разврат, пьянство – всё, что вы любите. Вы же грешник, вот этим и будете заниматься в нашем грешном ведомстве.
— Выходит, никакого наказания не существует?
— Ну, как вам сказать, – тихо сказал брюнет, поднимаясь из-за стола. – Формально это и есть ваше наказание.
Даниил Заврин
|
| |
| |
| Бродяжка | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 09:14 | Сообщение # 531 |
 настоящий друг
Группа: Друзья
Сообщений: 719
Статус: Offline
| Оперировали меня недавно.
Отхожу после наркоза.
Лежит рядом мужичок, лет шестидесяти, в потолок смотрит.
Напротив меня – жена моя, Нина.
Напротив него – четыре взрослых дочери.
Вижу, дочери проводят шмон. Все шкафы они вывернули, все полки обнюхали, под всеми матрацами проверили.
По ходу выяснилось, что ищут они сигареты у папы, что было у него три инфаркта (сейчас лежал он с аппендицитом), что так нельзя относиться к своей жизни, к маме, к ним…
Он смотрел в потолок и божился, что завязал.
В общем, не нашли они сигарет.
Посидели, поцеловали папу, ушли.
Как только смолкли их шаги, он сразу встает, подходит ко мне, говорит моей жене Нине: «Извините», – и вытаскивает свою пачку «Парламента» из моих брюк, висевших на стуле.
Я ему хриплю: – Но всё-таки у тебя три инфаркта.
А он мне: – А если это для меня, как воздух?..
Через день стоим в закутке. Он курит в кулак, боится, что его медсестры заложат.
То да сё, разговариваем. И он рассказывает мне, что он генерал-десантник, воевал во всех израильских войнах, а их было немало. Поэтому и курит.
– Ну, все тут воевали, – сказал я.
– Но не все знают, почему воевали, – говорит он.
– Почему? – спросил я.
Он затянулся во все лёгкие... На вопрос не ответил.
Но начал рассказывать о войне.
О том, как по-разному «уходили» друзья. И в бою, и по глупости, и по случайности.
Рассказал, как однажды он выскочил из машины пописать, пока шла колонна, а когда оглянулся, уже никого не было... Наш же самолёт налетел, перепутал, покосил ребят…
А потом он сказал:
– Вот у меня четыре дочери, они, конечно, заботливые, нечего сказать, но… Они не дадут сигарету перед смертью, нет… А вот сын бы дал. Был у меня сын, – говорит. – Мы с ним были как братья.
Я уже понял, что он скажет дальше. Так и получилось.
– Я тогда был майором. Сынок мой спал и видел, что будет вместе со мной в армии, вот так, плечом к плечу. Семья у нас военная, все были «за», и жена, и родители мои…
И я, конечно.
Короче, он стал десантником, мы вместе сделали 48 прыжков… Было мне, кем гордиться…
Ну вот, он практически на моих глазах и погиб…
Я молчу, что тут скажешь!?…
– Я чувствовал, – он говорит, – чувствовал всё время, что это произойдёт. Но как-то заглушал в себе это чувство, не мог представить себе, что мой сын будет где-то в штабе штаны просиживать. Да он бы и не смог.
Что я хочу сказать тебе, – говорит без перехода. – Будет война!.. Будет ужасная война, – говорит.
– Что значит ужасная?!..
– Это значит, что игры закончились.
– Все говорят, что мы готовы к войне.
– К такой не готовы.
– Что же делать?!
– Я знаю, что делать, – он говорит. – Надо понять, почему они приходят.
– Почему? – Я, помню, подумал, неужели знает?!
– Я скажу тебе. Закон он один, простой до слёз. Как только мы забываем, что мы один народ, - приходит война.
Я проследил это, я все войны наши, все беды наши проследил, было время, валялся по госпиталям, – он посмотрел мне в глаза, и голос его стал тихим. – Они все происходят из-за нас.
Он вытащил из пачки ещё одну сигарету, и, не скрываясь, закурил.
– В 73 году я служил на Голанах...
Я помню, как прямо в воздухе висело, – быть беде. Такая ненависть была между ашкеназами* и сефардами*, такая ненависть, до судорог, до воя!
Они видеть друг друга не могли. Я уже тогда думал, что добром это не кончится.
Помню однажды приехал домой, в Бат-Ям, а там поножовщина, – сефарды с ашкеназами бьются, и лица у всех такие, что страшно подойти. Я им кричу, – ребята опомнитесь, ребята! Мы же один народ!..
Не слышат. Ненавидят.
Какой там один народ?!
И так по всей стране…
Остановить это могла только война. И она пришла. Война «Йом Кипур».
И гибли наши дети, ашкеназы и сефарды, и стоял стон несчастных их родителей, по всей стране… - он вздохнул, закрыл глаза, тихо сказал, - Она нас объединила, эта война.
Но какой ценой?!
Замолчал. Вытащил третью сигарету, крепко затянулся. Я увидел, как дрожат его руки.
– Сегодня всё повторяется. – сказал он. – Сегодня мы разобщены ещё больше.
Никто не слышит друг друга, никто!..
Война на пороге. Но теперь уже будет такая война, какой не было никогда. – Он приблизил ко мне свое усталое лицо и прохрипел. – Я тебе говорю, я этот закон вывел, он работает, как часы. Это не просто так вокруг нас одни враги, не просто так нас ненавидят… Всё только для одного – заставить нас соединиться.
Он бросил сигарету.
– Мы корень свой потеряли, – сказал. – Народа нашего. Единство.
Я не успел ответить.
Он стал подниматься по лестнице.
Мужика этого, генерала-десантника, забрали дочери домой на следующий день.
Он улыбался им, шутил, а я видел, что глаза у него тоскливые.
Подмигнул мне, я – ему, так и расстались.
В кармане я сжимал его пачку «Парламента», с последней сигаретой.
Очень хотелось курить.
Семён Винокур
|
| |
| |
| Рыжик | Дата: Понедельник, 10.05.2021, 17:38 | Сообщение # 532 |
 дружище
Группа: Пользователи
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Мидраш об ушедшем штетле
Олег Кац
Я не родился в штетле.
В отличие от моих родителей.
Я уже второе или почти третье поколение ашкеназов, ушедших из ныне исчезнувшего мир.
Родители же были оттуда и вышли вовне, в свободный поиск будущего.
Для папы это был титанический исход.
Прямо из хедера — год подготовки в начальной и два в вечерней школе, потом рабфак.
Только представьте — за год освоить школьную программу вместе с совершенствованием языка общепринятого советского общения, упорядочиванием случайных знаний из популярной, старой гимназической и случайной технической литературы, которую он приносил с сахарного завода.
Мама рассказывала, как он читал позже, и видимо, такая система у него выработалась с детства.
Он приносил домой мешок книг, складывал стопками на табуретке и читал. Прочитанные книги бросал за диван. Чтобы не мешали.
Мешок в неделю...
А потом сдавал экзамены.
И языки. (Учитель немецкого объяснял — у-умляут: витянуть губки трубкой, чтобы сказать «у», а сказать «и-и-и»).
* * *
С жителями штетла я познакомился гораздо позже.
Сестра вышла замуж за человека, вышедшего оттуда на двадцать лет позже моих родителей и сохранившего язык, картавость и едкий обязательный юмор в каждой фразе. Красавца, чем-то похожего на папу. Ветеринара с «красным» дипломом.
А спустя несколько лет я познакомился с его родителями.
Они приехали в наш город купить материалы для работы кожу, суровую нитку, сукно.
У себя в местечке его папа слыл знаменитым сапожником. Правда, он шил не сапоги, а валенки.
Это не валялось, а делалось из чёрного сукна, простёгивалось с ватой и ситцевой подкладкой и обшивалось кожей. Выглядело аккуратно и не без изящества и прекрасно гармонировало с лагерными ватниками… а ситцевые отвороты — с пёстрыми головными платками.
А в сочетании с калошами это много лет было основной обувью половины страны на все времена года.
Ещё местечко славилось двумя оставшимися мастерами — им и потомственной колбасницей, которая делала на продажу колбасу по старинному семейному рецепту и НИ РАЗУ в жизни её не пробовала — она же была трефная.
Они приехали со своими двумя кастрюлями и курицей, зарезанной резником.
Они не умели пользоваться туалетом и водопроводом.
Она не умела читать, а он знал Тору наизусть.
— А у вас тут тору можно найти? — спросил старик несколько свысока, ознакомившись с нашим нееврейским бытом.
Я снял с полки толстый двухтомник-билингву с надписью на первой странице «для употребления евреям».
— О! — его это удивило.
Он с видимым удовольствием открыл Пятикнижие, нашёл какую-то страницу и закрыв глаза, стал нараспев её декламировать (как я потом понял, очередная страница для ежедневного чтения).
Я проследил за ним и дождавшись паузы, прочел последние прозвучавшие строки по-русски.
Это его ошеломило.
— Как, ты умеешь перевести?
Мне стоило больших усилий объяснить, что я просто читаю перевод рядом с текстом.
И только потом до меня дошло, что он просто не очень умеет читать...
Спустя пару лет я тоже приехал к ним в гости.
Дом стоял на большом участке, обсаженном старыми орехами и яблонями.
— Здесь рядом никого не осталось — сказал старик.— Это конечно, была не главная улица, но и не окраина. А теперь это самый край. Кого убили, кто умер. Кто-то уехал.
Он с гордостью показал дом, построенный и многократно перестроенный лабиринт. Где гордостью была большая комната с зеркальным шкафом, сервантом, люстрой и телевизором. Где в дверях почти каждой была мезуза, потому что самый первый дом был всего из двух комнат — жилой и курятника.
— А это вход в подвал. Там дети и жена всю войну просидели, ночью выходили подышать.
Об этом я уже знал.
Муж сестры родился перед самой войной.
Местечко попало в зону румынской оккупации. Почти никто не эвакуировался.
Но семьи прятали в подвалах, и только кормилец, зарегистрировавшись в управе как полезный мастер, мог относительно свободно передвигаться в пределах штетла и добывать необходимые продукты — их было не так много и нужно — вечные соль, спички, керосин и сахар. Крупы. Рыбу из общественного пруда, который раз в пять лет чистили бородатые старооборядцы. И курицу от резника. Другую жена отказывалась есть и давать детям до самой смерти. И обмануть её было невозможно.
А будущий муж сестры был младшим и до конца оккупации так и не начал говорить.
Зато потом у него обнаружился талант саванта — он совершал в уме и мгновенно все арифметические действия с многоразрядными числами…
И закончил ветеринарный институт с отличием. И стал главным ветеринаром-контролёром крупнейшего мясокомбината страны.
Потом старик — его звали Мошко — показал мне с гордостью, как он обустроил стульчак в уборной по типу городского. И показал, как шьются стёганые валенки на зингеровских машинках. И сводил к знаменитой девяностолетней колбаснице.
— Ривке, шолом.
— Шолом, шлемазл — она сказала это из сумрака через маленькое окно застеклённой веранды. — А он что, гой?— она посмотрела на меня неожиданно яркими голубыми глазами.
— Нет, он еврей из Егупца. Городской. Это же брат моей золовки.
— Зачем же ему моя колбаса?
— Слушай меня, Ривке. Я привёл тебе покупателя. Мало ли зачем ему твоя колбаса!
И она протянула мне из окошка два ещё горячих тяжёлых кольца с аппетитным запахом незнакомых мне пряностей. Пальцы её были тёмными и узловатыми, с поражёнными артрозом натруженными суставами.
Мы возвращались мимо спущенного пруда, откуда бородатые добродушные «кацапы» развозили тачками по огородам чёрный ил, обнажая золотистый песок дна.
А уже дома, ловко строча валенок, Мошко рассказал мне, почему «этот гозелен Хитлер» ненавидел евреев.
— Он, этот гозелен, влюбился в еврейку. И её отец спросил — а кто ты такой? — Я художник.— Это богопротивное занятие. Вот если бы ты рисовал вывески или цветы в синагоге.
— Этот мишуге пошёл к ребе и подрядился подновить порченные временем рисунки и позолоту в старой синагоге. А надо было это делать ночью, когда никого нет. Он потел над рисунками и вонял козлом, а под утро проголодался.
Стал искать еду — а какая еда в синагоге? это даже не Песах — и нашёл банку с маринованными в уксусе мясными колечками. Начал, конечно, их есть, доставал задним концом своей самой маленькой кисточки и ел.
Но тут пришёл ребе и спугнул дурака.
И увидел разбросанные кусочки крайней плоти.
Ой, что там было! Вы даже не представляете, что там было! И какое вообще может быть сватовство после такой глупости?
И тогда этот Хитлер возненавидел себя и ещё больше евреев… потому что любой еврей мог показать на него пальцем — смотрите, люди, это он, тот самый!
… Когда старый Мошко умер, — а дети давно разъехались по всему миру, стали врачами, учителями и инженерами — младший сын забрал мать к себе, на пятый этаж хрущёвки с наклонным потолком вместе с её кошерными кастрюлями и курицей, зарезанной у резника в райцентре.
А спустя год сын поехал на родину продать за бесценок заколоченный старый большой дом и увидел пустырь, окружённый яблонями и орехами...
А дом и туалет со стульчаком из старого стула разобрали односельчане… потомки шабес-гоев и просто добрые и недобрые соседи.
Тогда он поплакал на пустыре и вернулся на свой пятый этаж, где с балкона был виден постамент с реактивным истребителем и самая высокая в Европе телевышка.
И потом она умерла там, на пятом этаже, подружившись с моей сестрой в конце жизни, даже доверяла ей трогать эти её кастрюли.
И все, все, все они умерли. И имена их зачеркнуты в книге жизни.
Но дух их витает над водами.
Над заросшим прудом.
Над пустырём, окруженном орехами и яблонями.
Эл моле рахмим…
|
| |
| |
| Златалина | Дата: Среда, 26.05.2021, 12:41 | Сообщение # 533 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Статус: Offline
| Эр рэд аф идиш
Илья РУДЯК (США)
Мои фамилия, имя и отчество: Срулевич Моисей Юделевич. Представляете, как это звучит для русского уха?
И особенно если ты после школы попадаешь в погранвойска.
Единственный еврейский юноша на весь округ.
При перекличке фамилия вызывала взрыв смеха. Старшина Войтенко выговаривал строю, что нехорошо смеяться над фамилией солдата... Срулевича (смех перерастал в гогот), и с удовольствием повторял её снова (гомерический хохот).
Значительно позже я понял, почему меня с пятым пунктом призвали служить в ведомство КГБ: в 18 лет я имел 187 см роста и 90 кг веса.
Загремел бы я в какую-то Коми АССР охранником в лагерь. Спасло чистописание. Я был прирождённым каллиграфом.
Вот такое редкое сочетание «Дяди Стёпы» и «князя Мышкина».
И тут я был нарасхват.
Оформлял красные уголки, выписывал удостоверения, грамоты...
Вскоре перевели меня из Измаила в Одессу.
Писал адреса в обком, в Киев и даже лично Андропову по случаю его шестидесятилетия.
Одесса! Почти три года беззаботной и неповторимой уже потом жизни...Оставалось время и на море, и на танцы в парке Шевченко, и на театры, особенно оперетту.
В те годы был взлёт славы Михаила Водяного.
А теперь — к чему веду рассказ...
Читаю на афишных тумбах: «Певица Нехама Лифшицайте. Еврейские песни».
Мне, племяннику дяди Эзры Шварца, кантора нашей Джуринской синагоги, да не пойти?! Когда ещё выпадет такой шанс?
Отправляюсь за несколько дней до начала гастролей за билетом, а они все проданы.
Пришлось попросить моего начальника посодействовать.
— Заговорила родная кровь, Срулевич.
— Давно не слышал ничего на еврейском.
Позвонил он в филармонию.
Представляю, какой там стоял переполох. Билет, притом бесплатный, в центре первого ряда, ждал меня в кассе.
Выгладил я свою синюю форму (костюма ведь у меня не было), начистил до блеска ботинки, надраил на фуражке кокарду и отправился на концерт.
Такое собрание евреев я увидел впервые. И каких евреев!
Музыкантов в бабочках, художников с длинными волосами, старых меломанов с аккуратно подстриженными бородками.
А женщины!!!
Я среди всех выглядел «синей вороной».
Но передо мной расступались, шушукались за спиной, вымученно улыбались.
Соседка слева, дородная мадам с пенсне на носу, застыла, когда я сел рядом, и косила глазами не переставая.
Сосед справа, старичок, опирался на палку с набалдашником в виде льва и раскланивался со многими: «Здраствуйте, добгый вечег, доброго здоговьечка!»
Все обращались к нему: «Доктор Циклис!»
А завидев меня рядом, быстро-быстро ретировались. Он же, подняв высоко голову, смотрел на меня с удивлением.
Моё присутствие создало напряжённое состояние в зале.
До меня доносилось:
— В зале кагебэшник.
— Он следит за доктором Циклисом.
Все взоры были обращены на меня. Я почувствовал себя ништ гит...
Как разрядить обстановку?
Не могу же я встать и сказать им, что я такой же еврей, как и вы, что я помню до сих пор песни на идиш, что я пришёл насладиться музыкой.
Я попросил у соседки программку. Она неохотно протянула её мне.
Я стал читать вслух: «Варнычкес», «Ломир зих ибербейтн», «Шир а ширим»...
— Ир рэд аф идиш?
— Авадэ, конечно.
— Эр из а ид, эр рэд аф идиш! — крикнула она, вставая. По залу от первого до последнего ряда прошла волна:
— Эр рэд аф идиш!
...Нехама Лифшицайте была на высоте, в ударе. Пела она замечательно. Чистый голос, великолепное произношение, выразительные руки!
В перерыве меня затащили в буфет и накормили досыта — «голодненького, бедненького еврейского солдатика».
После концерта доктор Циклис повёл меня с собой за кулисы и представил певице.
На сцене она казалась мне высокой, а здесь — красавица-подросток.
Я попросил надписать открытку.
— Впервые вместо показаний даю чекисту автограф. Такое бывает нор ин Адес, — пошутила она...
Полковник Булыгин спросил меня на следующий день:
— Ну, как тебе «Варнычкес»?
— Вкусные, товарищ полковник.
— Наши там были. Отчёт имею. А что она написала тебе на открытке?
— «На добрую память, с любовью Нехама».
— Красавец (с ударением на последний слог), иди, пиши поздравление Щербицкому с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда...
Такая была мелиха!
Источник: «Дерибасовская — Ришельевская», №18, 2004 г.
|
| |
| |
| Пинечка | Дата: Четверг, 27.05.2021, 05:47 | Сообщение # 534 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1459
Статус: Offline
| ах, какие вкусные и замечательные воспоминания!
автору спасибо за доставленное удовольствие...
|
| |
| |
| papyura | Дата: Суббота, 05.06.2021, 10:47 | Сообщение # 535 |
 неповторимый
Группа: Администраторы
Сообщений: 1561
Статус: Offline
| Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.
Помни это, помни это,
Не кляни свою судьбу.
Георгий Иванов... (написано давненько)
КАК ЛЕЧАТ ДЕПРЕССИЮ В ЯПОНИИ
Я перестала следить за собой, стала весить 75 кг, могла в одной пижаме ходить весь день и не мыться по два или три дня. Даже зубы не чистила, а потом мне даже жить не хотелось...
Узнав об этом, моя подруга - японка предложила поехать в одну клинику, сказав, что там есть весьма интересная процедура, после которой жизнь меняется, как будто заново родился...
Она приехала за мной, я так и пошла в пижаме и в домашних тапочках с ней. Ехала в центр Токио в таком виде. На голове дулька.
В Японии вообще не обращают внимания на тебя. Хоть голой ходи.
Им не до кого-то. Каждый занят своими мыслями. И у них нет привычки рассматривать людей в транспорте или на улице. Настолько люди там свободные.
Пришли, заполнили бумагу...
Так вот, захожу, а там посередине комнаты стоит гроб. Врач задал несколько вопросов, мне дали одежду нарядную для смертника, я переоделась. Скомандовали: - Ложитесь и представьте, что чувствуют умершие... когда захотите выйти - вот кнопка, нажмите её и мы вас выпустим.
Я легла. Внутри был странный запах освежителя...
Мягкий атлас яркого цвета. Бусинки по периметру гроба... Лежу, осматриваюсь... Внутри играет траурная музыка.
Тут слышу, как будто меня выносят и загружают в машину. Я нажимаю на кнопку, она вдруг отваливается...
Я начинаю их звать и возмущаться,что я не за это заплатила. И вообще, не охренели они ли часом?!
Потом едем минут 10. Я уже задыхаюсь немного.
Затем слышу команду: - Выгружай! И чувствую, как меня опускают на верёвках в землю. Слышу, как земля падает сверху на гроб...
И голоса становятся приглушенней. Я начинаю уже в истерике во весь голос орать. Материть по-русски. В голове миллион мыслей. Что я попала к сектантам. Они меня убивают. Аум Сенрикё! Гандоны, которые ненавидят иностранцев. И скорее всего подруга - японка с ними в сговоре.
Убью су..!!!...Меня реально закапывают.
Я начала брыкаться и визжать, как свинья на бойне... А самое страшное - я начала задыхаться.
Я рыдала и сопли текли по щекам, заливая уши. От истерики и страха я описалась. Из-за тесноты я даже не могла вытереть лицо. Я лежала, как бревно - руки по швам, в тесном гробу. Внутри воняло мочой.
Я думала: - Господи, я не хочу умирать!
Там было ужасно тесно. Душно. И дышать было уже нечем. Стала кружиться голова. Я почувствовала, что начала мерзнуть. Я ведь описала весь гроб и лежала мокрая в своей моче...
- Холодная земля, - подумала я.
Рыдала я минут 20. И уже теряла сознание. Состояние было жуткое.
Начала понимать Гоголя и вспомнила, что возможно он очнулся в гробу и умирал так же, как я тут.
Перед моими глазами сразу всплыли картинки из прошлого: как я родила и держала дочку на руках.. Её первые шаги... Её косички, которые я заплетала каждый день.
О боже, я совсем забыла о своей дочери! Из-за своей мнимой депрессии...
Я вспомнила, что вообще перестала звонить маме...
Вспомнила, что жизнь так прекрасна! Что жизнь чудесна! А я тут, су.., в гробу умираю. И меня убивают мои любимые японцы, которых я так боготворила. Эх, японцы?! Эх су..!
И тут открывается крышка гроба.
Смотрю: я в той же комнате. Этот гроб - иллюзия смерти и полностью компьютизированный.
Я ещё плакала минут 10. Еле успокоилась. Материла их. Подруга стоит, ржёт.
Они мне дали видеозапись моей "смерти". Внутри гроба были вмонтированы камеры, которые всё записывали.
После этой процедуры я похудела, похорошела, полюбила жизнь и даже мысли о том, что я не хочу жить или у меня депрессия, больше нет.
Не хочу больше туда! Хочу жить здесь и сейчас!
Вот...
И вы полюбите жизнь!
|
| |
| |
| KBК | Дата: Суббота, 12.06.2021, 14:09 | Сообщение # 536 |
 верный друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Статус: Offline
| Сёстры Берри родились в Нью-Йорке, но их отец был родом из Киева, где он и его предки многие годы мирно жили, занимаясь торговлей и ремеслом.
И всё было б хорошо, не случись революции. Она, конечно, старый мир до основания разрушила, но в новый не принесла в ничего, кроме горя и нищеты.
Город занимали то белые, то красные, а мудрый Бейгельман не верил никому, понимая, что счастья ни под той, ни под другой властью уже не будет.
Многие евреи из этого бедлама бежали в Америку, но он так и не решился двигаться куда-то с родного Подола. За счастьем в далекую и свободную Америку поехал лишь один из сыновей Бейгельмана - Хаим.
Он поселился в Нью-Йорке и там скоро нашёл свое счастье, женившись на хорошей еврейской девушке Эстер. Вскоре родились дети - Клара, Мина и ещё несколько красивых девочек.
«Семья была большой и дружной. Мы всегда ели только вместе, отдыхали вместе, гуляли, вместе помогали маме по хозяйству. Это сегодня дети могут неделями не общаться с родителями, а у нас, к счастью, было не так»- вспоминала Клара.
«Телевидения в те годы не было. Для наших родителей и для тысяч других иммигрантов единственным окном в мир была "Форвертс" - ежедневная еврейская газета на идиш и радио "Форвертса".
Каждое воскресенье мы буквально замирали у радиоприемника и слушали еврейскую музыку и получасовую детскую музыкальную передачу, в которой талантливые дети выступали - пели, играли на скрипке и пианино.
Мама решила: "Если те дети могут, то почему моя девочка не может что-то спеть, и однажды меня повезли на прослушивание.
Голос Клары понравился и её пригласили для воскресного выступления. Первой исполненной юной артисткой была песней была «Папиросн»
Вспоминает Клер Бейгельман: , «А потом мы вернулись домой, и мама пошла к матери моей подруги Беллы Коэн. Как вы думаете— для чего? Белла брала уроки фортепиано, и моя мама спросила у её мамы: «Сколько это вам стоит?» Та ответила: «Пятьдесят центов за урок». Тогда моя мама сказала: «Я буду платить вам 25 и пусть ваша дочка учит мою». И Белла начала меня учить тому, чему сама только что научилась, за 25 центов».
С первого моего выступления на радио прошёл, наверное, год, Я пела только еврейские песни. Мне было 11, а моей сестре Мирре - семь. Однажды наш аккомпаниатор на радио, сказал, что он хочет отобрать трёх девочек для новой программы, научить их музыкальной грамоте, а за выступления каждая будет получать... по пять долларов.
Для меня это было настоящим богатством! Обучение шло с трудом и я бы, конечно, давно плюнула на это нудное дело, если бы не... обещанные пять долларов.
Потом моя мама сказала: «Я хочу, чтобы ты научила петь Мирру", я стала её учить и потом мы всегда с сестрой смотрели на портрет мамы и говорили: "Мамочка, спасибо тебе, это только твоя заслуга, что мы стали петь и известны во всем еврейском мире".
Когда юные певицы записали на радио несколько песен, их заметил известный шоумен Эдди Селливан, он-то и помог сёстрам стать профессиональными певицами. Вот тогда Клара стала Клер, Мерна Миной, а дуэт стал называться сёстры Берри.
Девочки со временем прошли хорошую вокальную школу, а удивительное сочетание таких разных, противоположных друг другу голосов высокого и низкого тембра помогло сестрам создать своё собственное, ни на кого не похожее индивидуальное звучание.
Репертуар сестёр был очень разнообразен - они пели песни на нескольких языках, но знаменитыми на весь мир стали благодаря великолепному исполнению песен на идиш. Старые, забытые мелодии в джазовой обработке Абрахама Эльстайна, воскрешали в памяти сгинувший в пожаре страшной войны быт старых еврейских местечек.
Сестры много гастролировали по всему миру и везде их ждал ошеломительный успех.
Артистическая судьба их привела и в Россию.
По случаю открытия американской выставки в 1959 году в Москве в Зелёном театре парка имени Горького состоялся большой концерт.
Это было настоящей сенсацией, изголодавшаяся по зарубежной эстраде публика валом валила на концерт, а когда сёстры запели на идиш, восторг зрителей просто невозможно описать.
Таких невероятных событий в жизни тогдашнего советского еврейства было два – приезд в Москву первого посла Государства Израиль Голды Меир и концерт сестёр Бэрри...
Слух о том, что в Москве певицы из Америки пели со сцены на мамэлошн моментально разнёсся по городам и весям Союза, и в Москву хлынули тысячи евреев из разных уголков страны, готовых за любые деньги приобрести кассеты с песнями сестёр Берри.
С тех летних дней в больших и маленьких городах СССР, в тысячах еврейских семьях зазвучали их пленительные голоса.
У неимоверной популярности сестёр Берри среди советских евреев есть своя предыстория.
В 50 - 60-х годах "железный занавес" был ещё наглухо закрыт.
Сталин умер в 1953 году, накануне суда над еврейскими врачами, евреев из Москвы и других крупных городов собирались выслать в лагеря Сибири и Азии под предлогом "защиты их от справедливого народного гнева".
Когда к власти пришёл Хрущёв, наступила оттепель и страха у людей, вроде бы поубавилось.
Но еврейские книги, еврейский театр, еврейская музыка, еврейские школы всё это было потеряно и, казалось безвозвратно, притом не только в Советском Союзе.
Война смела с лица земли еврейские местечки с его неповторимой атмосферой, бытом и языком.
В чудом созданном Израиле идиш был практически запрещён, а государственным языком стал иврит.
Казалось, уйдёт поколение евреев родившихся до войны и умрёт и сама память о языке наших предков. Именно в это время сёстры Берри приехали в Москву.
Скорее всего, организаторы концертов даже не подозревали, что дуэт пел песни на идиш. Для советских евреев это было чудом, чудом было и то, что красавицы сёстры и не думали скрывать своё еврейство. Со сцены неслась веселая, лихая, радостная еврейская музыка, под которую ноги сами просятся в пляс.
Сёстры Берри своим искусством подарили советским евреям несколько часов счастья и свободы, а такое не забывается.
Певицы ездили с гастролями по всему миру. Выступали в Южной Африке, Австралии. Не раз давали концерты и в Израиле.
"Однажды на гастроли нас пригласило израильское правительство. Во время войны Судного дня. Видимо, решили, что мы сможем психологически помочь солдатам. Мы много выступали, особенно перед ранеными. Помню, в одном из госпиталей мы вошли в палату, где лежал молодой парень, - нога в гипсе поднята на растяжке, руки и лицо забинтованы, из-под повязок видны только глаза... Рядом сидела его мать. Мы заговорили с ней на идиш, и она тут же со слезами на глазах отозвалась: "Он здесь уже три недели, но ещё ни разу не сказал мне ни слова".
Что нам с Мерной оставалось? Мы переглянулись и потихоньку запели: "hава нагила... hава нагила..." И вдруг парень шевельнул перебитой ногой - как бы в такт мелодии... Это было поразительно! Его мать не могла поверить своим глазам и только обнимала нас и плакала..."
Что в дальнейшем стало с сёстрами?
В 1976 году умерла Мерна от опухоли мозга. Никогда ничем не болела - и вдруг... Много лет после её смерти Клер не могла петь и только лет пятнадцать-двадцать спустя снова запела, но уже с мужчинами с Эмилем Горовцом, с Яковом Явно...
"Моё местечко Бельцы" - "Майн штейтеле Бэлц"
Есть такая знаменитая еврейская песня «Майн штейтелэ Бэлц.
Бельцы – это маленький городок на севере Молдавии.
Песня эта - ария из оперетты "Песня гетто* слова Якова Якобса, музыка Александра Ольшанецкого и посвящена знаменитой певице Изе Кремер, которая родилась и выросла в Бельцах.
Иза была необыкновенно красива и талантлива, училась пению в Милане, выступала с классическим оперным репертуаром. После революции, в 1919 году, Иза эмигрирует во Францию, где начинает выступать не только с классическим репертуаром, но и с песнями на идиш.
О её популярности красноречиво говорит тот факт, что она была вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным приглашена в 1943 выступать на концерте для участников Тегеранской конференции.
Во время Второй мировой войны она жила в Аргентине и давала концерты, сбор от которых шёл в пользу союзников.
Иза Кремер много гастролировала и собирала средства жертвам Холокоста, и в поддержку только что появившегося государства Израиль.
"Бублички"
Эта песня пользовалась такой популярностью, что трудно поверить, будто у неё есть автор, но он есть – это одессит Яков Ядов, он же Яков Давыдов, фельетонист, сотрудничавший во многих одесских газетах в начале 20-х годов.
О том, как создавалась это легендарная песня, рассказал её первый исполнитель т.н. блатного жанра, певец и композитор Григорий Красавин:
"У меня была привычка собирать мелодии песенок на всякий случай. Бывало, услышу где-нибудь в кафе или в ресторане что-нибудь характерно-эстрадное, прошу пианиста дать мне ноты. Одна из этих мелодий мне пригодилась в 1926 году.
Как-то я приехал на гастроли в Одессу, а там на всех углах продают горячие бублики. Только и слышно: "Купите бублики, горячие бублики" Мне захотелось отразить это в песенке. Кто это может сделать хорошо и быстро? Только Ядов... Он сразу загорелся: "Это прекрасная идея"... и через полчаса текст был готов."
Рассказывает Константин Паустовский, познакомившийся с поэтом в Одессе. Прогуливаясь по набережной Ядов показал мне тростью на гряду облаков и неожиданно сказал:
- "И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака."
Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.
Это Фет, сказал он. Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить серьёзно, я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Вышел хохмач. ...
Одесские эмигранты перевезли "Бублички" в Нью-Йорк, и уже в конце двадцатых их распевали на Нижнем Ист-Сайде.
"Бублички" превратились в "Бейгелах"...
|
| |
| |
| smiles | Дата: Среда, 23.06.2021, 18:01 | Сообщение # 537 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
| замечательное повествование о всемирно известном дуэте талантливых сестёр.
|
| |
| |
| просто Филя | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 07:55 | Сообщение # 538 |
|
Группа: Гости
| В детстве бабушка любила повторять мне одну фразу:
«Запомни, внученька, золото и украшения, которые хранятся в семье, можно продавать только в случае крайней необходимости. И никакого обмена на тряпки или модные вещи — это исключено!»
Пережившая две мировые войны и одну мировую революцию, бабушка знала о свойствах драгоценностей всё!
Она отлично помнила, как в середине двадцатых с мамой ходила в магазин, похожий на большой склад, где за роскошное жемчужное ожерелье им выдали бутылку постного масла, небольшой мешок муки, пакет перловой крупы и несколько кусков хозяйственного мыла.
Склад принадлежал американскому бизнесмену Арманду Хаммеру, который бойко выменивал у голодных жителей разорённой страны бесценные предметы искусства, антиквариат, меха и уникальные драгоценности на минимальный набор продуктов питания. Этот ловкий заокеанский «благодетель» стал при жизни почётным доктором 25 университетов и отошёл в мир иной с французским орденом Почётного легиона на груди...
В начале прошлого века, когда японцы ещё не научились выращивать жемчуг искусственно, а за каждым драгоценным зёрнышком полуголым ловцам приходилось нырять на изрядную глубину, — такое украшение стоило целое состояние. Но в ту страшную зиму прабабушкино ожерелье помогло спасти от голодной смерти всю семью.
«Украшения можно не только обменять на хлеб. В критической ситуации можно выкупить себе жизнь!» — учила меня бабушка.
В подтверждение своих слов она рассказала историю, которая произошла на её глазах в послевоенные годы.
У бабушки была близкая подруга Лиля, скромно жившая в крошечной квартирке на Молдаванке вместе с отцом и полуслепой сестрой Полиной, которую все звали тётя Поля.
Ах, эти прелестные молдаванские дворики, так подробно описанные Бабелем и воспетые Паустовским!
Представьте себе небольшой двухэтажный дом буквой «П» из медово-жёлтого пиленого ракушника, с крышей из тёмно-красной «марсельской» черепицы и ажурными коваными воротами, которые закрывались ночью на огромный амбарный засов.
По всему внутреннему периметру второго этажа шла просторная деревянная галерея, густо увитая виноградом, куда выходили не только окна, но и двери всех квартир. Попадали туда по старинной чугунной лестнице, такой музыкально-гулкой, что бесшумно подняться наверх было практически невозможно.
Летом вся жизнь дома сосредотачивалась именно на этой галерее и во дворе.
Душными летними ночами жильцы дружно покидали свои комнаты, чтобы спать на ватных матрасах на галерее или на скрипучих, порыжевших от времени раскладушках посреди двора.
Днём хозяйки выставляли на галерею грубо сколоченные табуретки. С утра и до позднего вечера там шипели медные примусы. Варить летом борщ, уху или жарить бычков «у помещении» было не принято!
Словом, не двор, а огромная коммунальная квартира, где все обитатели — невольные свидетели самых интимных подробностей жизни соседей.
В глубине двора имелись обширные погреба — «мины», вырытые ещё в те легендарные времена, когда контрабандисты прятали там бочки с итальянским вином и греческим оливковым маслом, тюки турецкого табака и французских кружев.
Бандиты, доморощенные революционеры и анархисты устраивали в погребах склады с оружием и боеприпасами. Сложная система ходов и тоннелей соединяла «мины» с городскими катакомбами. Зная их расположение, можно было без труда пробраться на морское побережье или выйти далеко за город в безлюдную степь.
Вот в таком молдаванском дворике родилась и выросла Лиля.
Она с успехом окончила медицинское училище и поступила на работу в одну из городских больниц. В самом начале войны молодую медсестру перевели работать в военный госпиталь. Когда немцы стали бомбить город, а в окопы на линии обороны можно было доехать на трамвае, Лиля вместе с коллегами-медиками сутками вывозила тяжелораненых бойцов в порт. Оттуда суда уходили в Крым и Новороссийск.
Сама Лиля уезжать не собиралась. Ей было страшно оставлять беспомощную Полину и спивавшегося отца-художника...
Это была официальная версия её отказа эвакуироваться на восток вместе с отступавшей армией.
Однако существовала ещё одна серьёзная причина, по которой Лиля осталась в городе. Но об этом знали всего несколько человек.
Буквально с первых дней оккупации в Одессе начал действовать подпольный штаб антифашистского сопротивления. Лиля как ни в чём не бывало вернулась на работу в больницу. Полина по мере сил занялась домашним хозяйством, а отец неожиданно бросил пить и с головой погрузился в творчество. Он рисовал неплохие копии с полотен известных художников, вроде Куинджи «Дарьяльское ущелье. Лунная ночь» или «Большая вода» Левитана.
Румыны охотно меняли его картины на мясные консервы из солдатских пайков и ворованный на немецких складах керосин.
Тот холодный октябрьский день 1941 года Лиля запомнила на всю жизнь.
Оккупанты гнали по городу длинную колонну серых от страха полуодетых людей. Женщины, старики, дети шли молча. Тишину нарушало только зловещее шарканье тысяч ног да бряцание оружия румынских конвоиров, которые сопровождали колонну.
Жители домов, мимо которых текла эта немая человеческая река, с ужасом смотрели на нескончаемый поток людей, обречённых на смерть: евреев вели за город, где их расстреливали и сбрасывали в противотанковые рвы, вырытые в середине лета во время обороны города. Многих загоняли в сараи, обливали керосином и сжигали заживо.
Вместе с двумя соседками Лиля стояла на обочине, не в силах повернуться и уйти.
Вдруг в этой скорбной людской толпе она заметила молодую рыжеволосую женщину с девочкой лет семи. На лице несчастной матери было такое дикое отчаяние, что Лиля содрогнулась от жалости и собственного бессилия. Внезапно шедший впереди старик споткнулся и упал. Движение колонны приостановилось. К старику тут же подскочили конвоиры. Солдаты начали избивать беднягу прикладами винтовок, заставляя подняться.
Всё произошло в считаные мгновения. Рыжеволосая женщина с силой толкнула девочку прямо Лиле в руки и, не оглядываясь, быстро пошла вперёд...
Лиля инстинктивно прижала дрожавшего ребёнка к себе, ловко закрыв краем широкой шали. А обе соседки, не сговариваясь, сделали шаг вперёд, загородив собой Лилю и малышку.
С величайшей предосторожностью Лиля привела ребёнка домой.
Вместе с Полей они решили сначала выкупать девочку и переодеть в чистое, ведь на ней были жалкие обноски. Румыны отбирали у обречённых на смерть всё, включая одежду.
И тут женщин ждал сюрприз. На шее у ребёнка на прочном шнурке висел маленький кожаный мешочек. Лиля высыпала содержимое на стол — несколько массивных золотых колец, тяжёлая витая цепочка от часов, три золотые царские монеты и шестиконечная Звезда Давида, украшенная россыпью мелких бриллиантов.
— Несчастная мать заплатила тебе, чтобы ты спасла её дитя, — тихо сказала тётя Поля, и обе женщины расплакались...
Всем, кто осмелился прятать евреев, грозил расстрел.
К чести соседей, на Лилю не донёс никто, хотя в городе было предостаточно негодяев, которые регулярно «стучали» в румынскую сигуранцу ради возможности занять чужую комнату, поживиться имуществом или отомстить за старую обиду...
Спасённая девочка осталась в семье Лили. Для всех она была дочерью погибшей при бомбёжке двоюродной сестры из Аккермана, о чём имелась искусно изготовленная в подпольной типографии справка. Все звали девочку Рита, хотя настоящее имя её было Рахель.
— Запомни, детка, — твердила Лиля, — тебя зовут Ри-и-та!.. А я — твоя тётя Лиля.
Как выжить в оккупированном городе — тема отдельного рассказа.
Работая в больнице, Лиля доставала продукты, медикаменты, гражданскую одежду и передавала подпольщикам, прятала в глубине двора партизанского связного и помогала известному в городе хирургу оперировать раненых советских солдат, которых прятали в катакомбах.
А потом наступил апрель 1944 года.
Жизнь в освобождённом от фашистов городе стала постепенно входить в мирную колею. Возвращались из эвакуации соседи, на улицах города появились раненые бойцы, направленные в санатории для лечения, спешно восстанавливали разрушенные причалы порта.
В том году удивительно рано зацвела знаменитая белая акация. Её хмельной аромат кружил голову, наполнял городские улицы душевным праздничным настроением.
Лиля решила в свой выходной день вымыть окна и постирать шторы. А тётя Поля вместе с Ритой устроилась на галерее, чтобы почистить на обед картошку.
Сосед инвалид, опершись на костыль, грелся на солнышке и неторопливо играл сам с собой в шахматы.
Лиля не сразу заметила коренастого молодого офицера с пыльным вещмешком на плече.
С потерянным видом военный вошёл во двор, огляделся, тяжело вздохнул...
— Товарищ капитан, вы кого-то ищете? — участливо спросил сосед.
Офицер не успел ответить. На весь двор прозвучал детский крик: — Папа!!!
Громко стуча босыми пятками по чугунной лестнице, к капитану кинулась маленькая Рита-Рахель. Офицер рывком сбросил вещмешок на землю и подхватил девочку на руки.
Они замерли посреди двора, крепко обхватив друг друга руками, словно альпинисты, зависшие над бездонной пропастью, в которую рухнула и исчезла навсегда их довоенная, спокойная и счастливая жизнь.
Капитана накормили жареной картошкой, напоили чаем.
Рита сидела рядом, вцепившись в рукав отцовской гимнастёрки, словно боялась, что тот может внезапно исчезнуть.
— Как вы нас нашли? — не скрывая удивления, спросила Полина.
Капитан помолчал, вытащил из кармана пачку папирос, повертел в руках, сунул обратно, смущённо кашлянул, прикрыл глаза ладонью и наконец ответил: —Можете не верить, но несколько раз мне снилась жена... Она уверяла, что ей удалось спасти нашу дочь. Откровенно говоря, я не надеялся... мистика какая-то...
Простите, я выйду... покурю...
На следующий день капитан возвращался на фронт. Его короткий отпуск заканчивался...
Перед отъездом он записал Лиле адрес своей сестры, которая до войны жила в Виннице, но летом сорок первого успела эвакуироваться в Ташкент.
— Спасибо вам за всё, — прощаясь, сказал капитан. — Даже не знаю, смогу ли отблагодарить вас.
Осенью сорок пятого за Ритой приехала её родная тётка из Винницы. Она привезла скорбную весть — отец девочки погиб в конце мая под Веной.
Лиля попыталась уговорить женщину не забирать Риту. Но та со слезами на глазах объяснила: — Этот ребёнок — всё, что у меня осталось. Обещаю вам, мы никогда не забудем вашу доброту.
Лиля перестирала и тщательно погладила Ритины вещички, аккуратно сложила всё в узелок и неожиданно засуетилась.
— Постойте! Заберите ещё вот это.
Достала кожаный мешочек, принялась смущённо объяснять: — Пришлось продать одно кольцо, чтобы купить дрова. Уж очень холодная зима выдалась в сорок втором.
— Нет-нет, что вы! Оставьте себе... Вы заслужили.
В женский спор неожиданно вмешался Лилин отец.
— Мадам, — торжественно сказал старик, — за кого вы нас имеете? Заберите ваши сокровища.
Это же семейные реликвии. Риточка скоро невестой станет. Для девочки это память о матери и готовое приданое.
Рита уехала, и жизнь Лили потекла своим чередом.
Вскоре в соседнюю пустовавшую комнату на втором этаже вселился новый постоялец Аркадий Степанович, солидный мужчина лет сорока, с нашивкой за ранение и широкой орденской планкой на полувоенном кителе. С собой он привёз две подводы серьёзного имущества — железную кровать, резной комод, массивный стол, ящики с книгами и посудой, трофейный патефон и портрет Сталина в тяжёлой резной раме. Любопытные соседки выяснили, что Аркадий Степанович холост и работает завхозом в одном из санаториев города. Новый жилец был обаятелен, подтянут, охотно угощал соседей папиросами, утром благоухал одеколоном «Шипр», а по воскресеньям любил сидеть на галерее и читать свежую газету.
Словом, положительный во всех отношениях персонаж и завидный жених. Впрочем, новый сосед имел одно увлечение, заинтриговавшее всех.
Как-то раз тётя Поля, осторожно спускаясь по лестнице, столкнулась с Аркадием Степановичем, за которым робко шла незнакомая молодая женщина.
— Вот, встретил старинную приятельницу, пригласил на чай, — объяснил Аркадий Степанович, помогая женщине преодолеть последнюю ступеньку.
Закрыв за собой дверь, Аркадий Степанович включил патефон. Старый молдаванский двор наполнился популярной мелодией танго «Брызги шампанского».
Потом в гости к нему заходили бывшая одноклассница, коллега, подруга детства, троюродная сестра из Киева...
Три-четыре раза в неделю соседи получали бесплатный концерт и богатую пищу для сплетен. Блондинки, брюнетки, в основном молодые женщины — у Аркадия Степановича был отменный вкус! Кстати, ни одна женщина не приходила дважды.
У жителей двора время от времени возникали серьёзные дискуссии на тему морали. Неутомимый Аркадий Степанович имел яростных сторонников, которые приводили аргументы в его защиту. После войны молодых неженатых мужчин катастрофически не хватало. Для одиноких женщин такой мимолётный «санаторный роман» — единственный способ получить крошечную порцию женского счастья.
В самом конце лета у Аркадия Степановича появилась новая пассия. Симочка была из породы тех женщин, которые привлекают внимание абсолютно всех мужчин, включая грудных младенцев и парализованных старцев...
Длинноногая, с отличной фигурой, атласной кожей и копной смоляных кудрей, она благодаря острому на язык соседу инвалиду получила прозвище Кармен.
К всеобщему удивлению, Кармен пришла и на следующий день. А потом стала являться регулярно. Она угощала детишек во дворе леденцами, а к Лиле прониклась особой симпатией, подарив французский шёлковый шарфик и плитку настоящего шоколада Московской фабрики имени Бабаева.
Тёплым воскресным утром, когда все жители дома неспешно занимались домашними делами, Аркадий Степанович вместе с Симочкой вышел на галерею. Его белоснежная рубашка и тщательно отутюженные брюки привлекли всеобщее внимание.
Сиявшая Сима в новом крепдешиновом платье была неотразима.
— Внимание, товарищи! — громко сказал Аркадий Степанович. — Хочу в вашем присутствии сделать важное заявление!
Тут он по-гусарски опустился на одно колено, взял узкую руку Кармен в свои широкие сильные ладони и торжественно объявил: — Многоуважаемая Серафима Юрьевна! Предлагаю вам свою руку и сердце. Я люблю вас и не мыслю своей жизни без вас...
Все закричали «Ура!» и зааплодировали. Аркадий Степанович вытащил из кармана маленькую коробочку и торжественно вручил розовой от смущения невесте.
В коробочке лежала роскошная брошь. Золотой жук-скарабей с бирюзовой спинкой держал в золотых лапках шарик из бледно-розового коралла.
— Семейная реликвия, — потупившись, объяснил Аркадий Степанович. — Единственная память о покойной матушке. Вещь уникальная!
Соседки восхищённо заохали, а Симочка почему-то побледнела и, сославшись на неотложные дела по случаю предстоящей свадьбы, вскоре ушла.
Аркадий Степанович, казалось, не заметил стремительного бегства своей возлюбленной. Он был занят организацией традиционного мальчишника, с домашним вином, обильной закуской и, конечно же, танцами под патефон.
Праздник длился до глубокой ночи. А рано утром к Аркадию Степановичу пришли с обыском.
Лилю и соседа инвалида пригласили в качестве понятых. В тот же день бледная Лиля прибежала к моей бабушке, всхлипывая и вытирая слёзы, она залпом выпила стакан воды с валерьянкой и начала свой рассказ.
Их было четверо — рослый мужчина в штатском, местный участковый и ещё два милиционера, один из которых остался на галерее, загородив входную дверь.
— Вчера в присутствии свидетелей вы подарили это ювелирное изделие гражданке Полянской? — спросил человек в штатском, вытаскивая из кармана скарабея.
Аркадий Степанович в шёлковой пижаме, слегка опухший от вчерашнего застолья, спокойно кивнул головой.
— Всё верно. Эта семейная реликвия принадлежала моей покойной матери.
— Как её звали?
— Пелагея Васильевна... Я не понимаю, к чему эти странные вопросы?
Мужчина повертел жука в руках, ловко поддел что-то пальцем. С тихим щелчком зеленовато-голубая спинка скарабея раскрылась, словно два крошечных лепестка.
— Здесь написано «Ребекка», — насмешливо сообщил мужчина в штатском и показал надпись понятым.
— Ну да... Так звали мамину подругу, которая сделала ей этот подарок, — не моргнув глазом нашёлся Аркадий Степанович.
— Начинайте обыск! — последовала команда.
Лиля отвернулась к окну. Ей было мучительно неловко смотреть, как выворачивают ящики комода, роются в чемоданах, простукивают подоконники и внимательно изучают крашенный коричневой краской пол. Аркадий Степанович сидел на стуле под портретом Сталина и невозмутимо наблюдал за происходившим.
— Встаньте и отойдите в угол! — вдруг скомандовал ему человек в штатском.
Только тут Лиля заметила, что у внешне спокойного соседа на висках выступили капли пота. Участковый осторожно снял портрет, а человек в штатском подошёл к стене и стал пристально рассматривать обои.
— За портретом в стене нашли тайник. В нём было спрятано семнадцать мешочков, около килограмма золота! — прошептала Лиля и опять заплакала. — Семнадцать! Ровно столько малышей загубил этот мерзавец.
Позже участковый рассказал, что такие, как этот Аркадий, специально охотились за детьми с мешочками на шее. Они отбирали золото, а ребёнка толкали назад в колонну или приводили на следующее утро в сигуранцу...
Прошлой зимой прямо на улице Аркадия опознала женщина, но ему удалось выпутаться. Он понял, что нужно срочно уезжать из города. Однако получить легальную прописку в другом месте по тем временам было невозможно. И тогда этот подлец придумал простой, как всё гениальное, план. Решил срочно найти себе жену. Причём женщину из уважаемой семьи, со связями и особым статусом.
Сима Полянская, дочь московского профессора, казалась идеальной кандидатурой.
Одного не мог знать Аркадий. Её дед был известным до революции одесским ювелиром, который на совершеннолетие каждой дочери, а их у него было пять, изготавливал особый подарок-талисман. Жук-скарабей достался Ребекке — самой младшей, которая изучала историю и мечтала стать египтологом.
Каждое лето Сима специально приезжала в Одессу. В семье очень надеялись, что хоть кому-то из одесской родни удалось спастись...
— А если бы этот гад подарил Симе банальную цепочку? Спокойно бы уехал, затерялся в столице, — покачала головой моя бабушка. — Да, но желание произвести на невесту впечатление сыграло с Аркадием злую шутку. Кстати, мы так и не узнали его настоящего имени. У него всё было фальшивое — и награды, и нашивка за ранение...
В конце шестидесятых, после смерти отца и тёти Поли, Лиля осталась совсем одна. И тут в старом дворе на Молдаванке появилась Рита, которую жизнь занесла в далёкий Новосибирск.
— Тётя Лиля, собирайся! — решительно заявила молодая женщина. — Будешь жить с нами. Мне невыносимо думать, что ты в четырёх стенах здесь сидишь. У вас же тут даже телефона нет! Про горячую воду я вообще молчу.
— Риточка! — с сомнением покачала головой Лиля. — Не хочу быть тебе обузой на старости лет.
У Риты в глазах заблестели слёзы.
— Тётечка, родная, ближе тебя у меня никого нет! Я так и сказала детям — ждите, скоро привезу вашу одесскую бабушку.
Перед отъездом Лиля принесла нам подарок — копию с картины Куинджи «Дарьяльское ущелье. Лунная ночь».
— Понимаю, что картина никакой ценности не представляет. Просто будете смотреть на неё и иногда вспоминать обо мне.
Теперь «Лунная ночь» висит над моим рабочим столом.
Некоторое время назад я обнаружила, что поверхность картины стала как-то странно выгибаться. Пришлось тащить её к знакомому художнику-реставратору.
— Откуда сей шедевр? — насмешливо спросил Толик, рассматривая «Лунную ночь». Помолчав, он добавил: — А знаешь, очень даже неплохо... Кто писал?
— Так, один бабушкин знакомый. Он давно умер.
— Ладно, оставляй, попробую что-нибудь сделать.
К моему удивлению, Толик позвонил в тот же вечер и возбуждённо проорал в трубку: — Слушай, подруга. Продай мне Куинджи! За любые деньги!
— С чего это вдруг? — насторожилась я.
— Это же уникальная картина! Я такого никогда не видел! Представляешь, она написана не на холсте, а на куске медицинской марли, на которую мучным клейстером наклеены одесские газеты времён немецкой оккупации. За большие деньги показывать её буду.
— Не могу! — твёрдо ответила я.
— Почему?
— Это семейная реликвия.
Галина Короткова
|
| |
| |
| несогласный | Дата: Четверг, 08.07.2021, 22:55 | Сообщение # 539 |
 добрый друг
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Статус: Offline
| почти притча...
Говард Келли, подросток-сирота, чтобы заработать себе на хлеб и обучение, разносил разные мелкие товары по домам.
Однажды, когда у него в кармане не осталось ни цента, мучаясь от голода, он решил зайти в ближайший дом и попросить еды. Ему было ужасно неловко, но подойдя к дому, он почувствовал решимость: откажут или нет, но будь что будет, подумал он и нажал кнопку звонка несколько раз...
Дверь открыла молодая и такая красивая девушка, что Говард от неожиданности растерялся, от его недавней уверенности не осталось и следа.
Ему стало стыдно просить у девушки поесть, запинаясь от волнения, он сказал: – Можно… попросить у вас… стакан воды? Девушка поняла, что юноша голоден, и принесла ему большой стакан молока. Говард медленно выпил его и спросил:
– Сколько я вам должен?
– Вы ничего мне не должны, – ответила девушка. – Мама учила меня никогда ничего не брать за добрые дела.
– В таком случае – сердечно вас благодарю! – ответил Говард...
Когда Говард Келли вышел на крыльцо её дома, он чувствовал себя крепче не только физически,
но и морально. Теперь он был уверен: пока на свете есть такие щедрые и добрые люди, всё будет хорошо!
Прошло много лет. И вот однажды жительница этого городка, серьёзно заболела. Местные врачи не знали, что делать и в конце концов решили послать её в большой город на обследование к опытным специалистам.
Среди приглашённых на консультацию оказался и доктор Говард Келли.
Когда он услышал название городка, из которого приехала эта женщина, его лицо оживилось. Он сейчас же поднялся к ней в палату. Женщина, устав с дороги, спала.
Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться – это была та самая девушка, которая когда-то угостила его стаканом молока...
Внимательно просмотрев историю её болезни и данные результатов анализов, Говард помрачнел... женщина обречена и помочь нельзя!
Доктор вернулся в свой кабинет и некоторое время сидел молча...
Он думал об этой женщине, о своём бессилии, о несправедливости судьбы. Но чем больше он думал, тем твёрже становился его взгляд.
Наконец он вскочил с кресла и сказал: «Нет, я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы спасти её!».
С этого дня доктор Говард Келли уделял больной пациентке особое внимание.
И вот - после почти восьми месяцев долгой и упорной борьбы - доктор Келли одержал победу над страшной болезнью. Жизнь молодой женщины теперь была вне опасности...
Несколькими днями позже доктору Келли принесли из бухгалтерии счёт за лечение женщины, сумма, которую она должна была уплатить, была огромна. И неудивительно – её, можно сказать, вытянули с того света...
Доктор Келли посмотрел на счёт, взял ручку и что-то написал внизу счёта ...
Подошло время выписки и получив счёт, женщина долго боялась его развернуть. Она была уверена, что всю оставшуюся жизнь ей придется, не покладая рук работать, чтобы его оплатить.
В конце концов, пересилив себя, она открыла счёт. И первое, что бросилось ей в глаза, была сделанная рукой и располагавшаяся прямо под строчкой "Оплатить", надпись гласившая:
"Полностью оплачено стаканом молока. Доктор Говард Келли".
Слёзы радости навернулись на её глаза, а сердце до краёв заполнилось теплотой
и благодарностью.
История эта, звучащая ныне как поучительная легенда, напоминает библейскую мудрость:
“Что посеешь, то и пожнёшь...”
------------------------------
Доктор Келли (Howard Kelly, 1858 – 1943) – не вымышленная личность, а известный
терапевт, один из основателей первого в Соединённых Штатах Медицинского исследовательского университета Джона Хопкинса.
История же о нём и о стакане поданного ему когда-то молока тоже достоверна и записана его биографом.
|
| |
| |
| Менестрель | Дата: Среда, 14.07.2021, 13:21 | Сообщение # 540 |
|
Группа: Гости
| Девушка с яблоками
Август 1942 года. Пётркув, Польша.
В то утро небо было мрачным, пока мы с нетерпением ждали. Всех мужчин, женщин и детей еврейского гетто Пётркува согнали на площадь. Ходили слухи, что нас перевозят.
Мой отец только недавно умер от тифа, который распространился по переполненному гетто и больше всего я боялся, что нашу семью разлучат.
«Что бы ты ни делал, - прошептал мне мой старший брат Исидор, - не говори им своего возраста. Скажем, тебе шестнадцать.
Я был высоким для мальчика 11 лет, так что я мог обмануть их. Таким образом, я мог бы считаться ценным работником.
Ко мне подошёл эсэсовец и осмотрев меня с ног до головы, спросил, сколько мне лет. "Шестнадцать", - сказал я. Он направил меня налево, где уже стояли мои три брата и другие здоровые молодые люди. Нашу мать послали направо вместе с другими женщинами, детьми, больными и пожилыми людьми.
Я прошептал Исидору: «Почему?» Он не ответил.
Я подбежал к маме и сказал, что хочу остаться с ней. «Нет», - строго ответила она. Уходи. Не мешай. Иди со своими братьями». Она никогда раньше не говорила так резко. Но я понял: она меня защищала.
Она так меня любила, что на этот раз сделала вид, что не любит. Это был последний раз, когда я её видел...
Меня и моих братьев перевезли в Германию. Однажды ночью мы прибыли в концлагерь Бухенвальд, и нас отвели в переполненный барак. На следующий день нам выдали форму и идентификационные номера.
«Меня больше не зовут Германом», - сказал я своим братьям. - «Меня зовут 94983».
Меня отправили работать в крематорий лагеря, загружать мёртвых в лифт с ручным управлением. Я тоже чувствовал себя мёртвым. я перестал быть человеком, я стал числом. Вскоре нас с братьями отправили в Шлибен, один из лагерей под Берлином...
Однажды утром мне показалось, что я слышу голос матери. «Сынок, - сказала она мягко, но ясно, - я пошлю тебе ангела». Я проснулся. Это был просто сон. Прекрасный сон. Но в этом месте не могло быть ангелов. Осталась только работа. И голод. И страх...
Пару дней спустя я гулял вокруг бараков, возле забора из колючей проволоки, где охранники не могли меня видеть. Я был один и вдруг заметил по ту сторону забора маленькую девочку с лёгкими, почти светящимися кудрями. Она была наполовину скрыта за березой. Я огляделась, чтобы убедиться, что меня никто не видит итихо позвал её по-немецки:
- У тебя есть что-нибудь поесть? Она не поняла.
Я медленно подошёл к забору и повторил вопрос по-польски. Она шагнула вперед.
Я был худым и измождённым, ноги были обёрнуты тряпками, но девушка не выглядела испуганной. В её глазах я увидел жизнь. Она вытащила из кармана шерстяной куртки яблоко и бросила через забор. Я схватил плод и убегая услышал, как она тихо сказала: «Увидимся завтра»...
Я возвращался на одно и то же место у забора каждый день в одно и то же время. Она всегда была рядом и приносила мне что-нибудь поесть - кусок хлеба или, ещё лучше, яблоко.
Мы не осмеливались говорить или задерживаться. Быть пойманным означало бы смерть для нас обоих...
Я ничего не знал об этой доброй фермерской девочке, кроме того, что она понимала по-польски.
Как её звали? Почему она рисковала жизнью ради меня?
Надежды было так мало, а эта девушка по ту сторону забора дала мне нечто, более питательное, чем хлеб и яблоки...
Почти семь месяцев спустя нас с братьями затолкали в угольную машину и отправили в лагерь Терезиенштадт в Чехословакии.
«Не приходи больше», - сказал я девушке в тот день. "Нас увозят." Я повернулся к баракам и не оглянулся, даже не попрощался с той, имя которой я так и не узнал, - девочкой с яблоками...
Мы были в Терезиенштадте три месяца.
Война подходила к концу, союзные войска приближались, но моя судьба казалась предопредёленной: 10 мая 1945 года я должен был умереть в газовой камере в 10 часов утра.
В тишине рассвета я попытался подготовиться. Столько раз казалось, что смерть готова забрать меня, но каким-то образом я выжил.
Теперь же всё было кончено...
Я думал о своих родителях. По крайней мере, думал я, мы воссоединимся.
Но в 8 утра поднялась суматоха. Я слышал крики и видел, как люди бегают по лагерю во все стороны. Я догнал своих братьев.
Русские войска освободили лагерь!
Ворота распахнулись.
Все бежали, я тоже. Удивительно, но все мои братья выжили; не знаю как.
Сам я знал, что ключом к моему выживанию была девушка с яблоками. В месте, где зло казалось торжеством, доброта одного человека спасла мне жизнь и дала надежду там, где её не было.
Мама обещала прислать мне ангела, и ангел пришёл...
В конце концов я добрался до Англии, где меня спонсировала еврейская благотворительная организация, и я поселился в общежитии с другими мальчиками, пережившими Холокост и обучавшимися электронике.
Потом я приехал в Америку, куда уже переехал мой брат Сэм. Я служил в армии США во время Корейской войны и вернулся в Нью-Йорк через два года.
К августу 1957 года я открыл собственную мастерскую по ремонту электроники. Я начинал осваиваться.
Однажды мне позвонил мой друг Сид, которого я знал ещё по Англии. «У меня свидание. У неё есть польская подруга. Пусть это будет девушка для тебя»...
Свидание вслепую? Нет, это не для меня.
Но Сид продолжал настаивать, и через несколько дней мы направились в Бронкс, за его девушкой и её подругой Ромой.
Вынужден признать, что для свидания вслепую это было не так уж и плохо: Рома работала медсестрой в больнице Бронкса, была добра и умна. К тому же она была красива, с вьющимися каштановыми кудрями и зелёными миндалевидными очень живыми глазами.
Мы вчетвером поехали на Кони-Айленд. С Ромой было легко разговаривать, легко общаться. Оказалось, она тоже боялась свиданий вслепую!
Мы оба пришли, только чтобы помочь нашим друзьям.
Мы прогулялись, наслаждаясь солёным атлантическим бризом, а затем пообедали на берегу. Я не помнил, чтобы когда-нибудь мне было так хорошо...
В машине Сида, мы с Ромой устроились на заднем сиденье.
Как европейские евреи, пережившие войну, мы знали, что между нами многое осталось недосказанным.
Начала она: «Где вы были, - мягко спросила, - во время войны?»
«Лагеря, - сказал я. Ужасные воспоминания всё ещё живы, невосполнимые потери ... Я пытался забыть. Но это никогда не забудется».
Она кивнула. «Моя семья пряталась на ферме в Германии, недалеко от Берлина», - сказала она мне. «Мой отец знал священника, и он принёс нам арийские бумаги».
Я представил, как она, должно быть, тоже страдала, страх-постоянный спутник. И всё же мы оба остались в живых, и теперь в новом мире...
«Рядом с фермой был лагерь», продолжила она. «Я видела там мальчика и каждый день бросала ему яблоки».
Какое удивительное совпадение, что она помогла другому мальчику.
«Как он выглядел?»- спросил я.
«Он был высоким, худым и голодным. Я видела его каждый день в течение шести месяцев»...
Моё сердце заколотилось. Я не мог в это поверить. Этого не могло быть.
- Он сказал вам однажды не возвращаться, потому что уезжает из Шлибена? Рома с удивлением посмотрела на меня: «Да!»
«Это был я!!!»
Я был готов взорваться от переполнявшей меня радости.Я не мог в это поверить! Она - мой ангел!
«Я не позволю тебе изчезнуть!»,- сказал я Роме. И там же, на заднем сиденьи машины на том свидании вслепую я сделал ей предложение.
Я не хотел ждать!!!
«Ты больной!» -сказала она. Но пригласила меня встретиться с родителями на субботнем ужине на следующей неделе.
Я так много хотел узнать о Роме, но самое важное, что я всегда знал: её стойкость, её доброта спасли меня: в течение многих месяцев, в тех ужасных обстоятельствах, она приходила к забору и давала мне надежду. Теперь, когда я снова нашел её, я не мог её потерять.
В тот день она сказала мне "да"...
И я сдержал своё слово. После почти 50 лет брака, двух детей и трёх внуков я никогда не отпускал её от себя.
Герман Розенблат из Майами-Бич, Флорида
|
| |
| |
|










